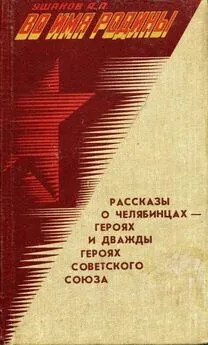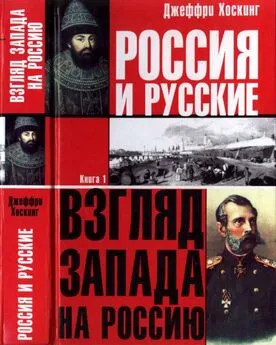Джеффри Хоскинг - История Советского Союза. 1917-1991
- Название:История Советского Союза. 1917-1991
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ВАГРИУС
- Год:1994
- Город:М.
- ISBN:5-7027-0034-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джеффри Хоскинг - История Советского Союза. 1917-1991 краткое содержание
“Культура осознает себя на границе, выходя за собственные пределы” — любил повторять один из самых мудрых методологов гуманитарного знания Михаил Бахтин. Эти слова полностью приложимы и к Истории.
История Государства Советского еще не написана. Ее еще предстоит создать. Однако ясно, что без выхода за пределы своего эгоцентризма мы обречены оставаться в плену стереотипов и миров, прочно живущих в нашем сознании: Вот тут-то и может помочь жесткий взгляд поверх барьеров известного английского историка Джеффри Хоскинга.
Для растущих поколений отечественных историков этот труд, без сомнения, окажется подспорьем на пути к пониманию противоречивой судьбы России, приведшей к рождению загадочной для всего мира советской души.
И если, познакомившись с исследованием Джеффри Хоскинга, новый Карамзин, Ключевский или Соловьев в будущем с большей зоркостью приступят к созданию летописи Советского Союза для школ, то появление в свет этой книги будет оправдано.
Вот почему я с чистой совестью рекомендую книгу Джеффри Хоскинга “История Советского Союза. 1917–1991” для политологов, специалистов в области гуманитарного знания, учителей истории.
А.Г. АСМОЛОВ, член совета по социальной политике при президенте Российской Федерации, вице-президент общества психологов Российской Академии наук, заместитель министра образования Российской ФедерацииИстория Советского Союза. 1917-1991 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тем не менее было бы неверно сказать, что непотизм стал определяющей чертой советского партийно-государственного аппарата подобно тому, как это случилось в других обществах. Это, возможно, объясняется тем, что семья как таковая для советских лидеров имела меньшее значение, чем в большинстве других политических систем (но семейная жизнь тем не менее тщательно скрывалась от общественного мнения). Другое объяснение следует искать в той системе клиентелы* [25] Клиентела — (лат.) — покровительство. — Прим. ред.
, которая была описана выше и которая, вероятно, представляет собой советский аналог системы “наследования”. Эта гипотеза помогает понять, почему советской элите систематически и вполне успешно удавалось осуществлять то, что всегда и всюду делают правящие классы: передачу своего положения по наследству. Параллели с другими обществами — буржуазным, феодальным или восточным — были бы во многом неверны: советское общество являло собой новый исторический тип, и потому для адекватного его описания нам надлежит прежде всего привести в порядок терминологию.
Из приведенных доказательств следует, что причины существования централизованной системы планирования к 1970-м гг. имели не столько экономический, сколько политический характер. Даже те темпы экономического роста, что были достигнуты в 1930-х гг., теперь были недоступны даже для тяжелой промышленности. Ежегодный прирост в пятидесятых и шестидесятых годах составил 5–6%, в 1971–75 гг. он упал до 3,7% и в 1976–80 гг. — до 2,7%. По понятным причинам каждый старался в ежегодных отчетах показать хоть небольшой, но все же рост производственных показателей. Соответственно вполне закономерен вопрос: не скрывается ли за этими цифрами еще большее замедление темпов роста или даже некоторое падение производства? Конечно, в конце семидесятых годов население страны ощутило на себе, что экономические условия ухудшились, а постоянная нехватка тех или иных товаров стала еще заметнее.
Нехватка товаров, порожденная централизованным планированием, была столь велика, что бурно и пышно начала расцветать “теневая экономика”, восполнявшая недостаток необходимых населению потребительских товаров, транспортных и ремонтных услуг и т.д. В сельском хозяйстве “теневая экономика”, как было показано выше, вообще была узаконена в виде частных земельных участков и колхозных рынков. В прочих же секторах экономики она действовала совершенно нелегально. Но тем не менее по вполне понятным причинам продолжался ее бурный рост. Советский автомобилист, которому было нужно ветровое стекло или приводной ремень, быстро обнаруживал, что государственное снабжение не в состоянии ему помочь. Вместо того чтобы перестать пользоваться машиной, человек с помощью приятелей рано или поздно находил неофициальный источник снабжения, где цены были выше, но зато заказ выполнялся незамедлительно.
Но откуда же брались товары у частников? Нередко рабочие автомобильных заводов или ремонтных мастерских без особых осложнений воровали то, что их предприятия получали через систему государственного снабжения. Украденное просто-напросто списывалось как испорченное или утерянное при транспортировке. Частник также мог получать товары через своих помощников или даже из “подпольных” цехов, которые производили на сторону “дефицитные” товары и действовали либо втайне от властей, либо по каким-то причинам пользовались их покровительством. Заводы и колхозы нередко были лишь ширмой, за которой скрывались подпольные предприятия, производившие одежду, обувь, хозяйственные принадлежности или пищевые продукты, недоступные на рынке, контролируемом государством. Так, в августе 1976 г. “Правда” рассказала о том, что жители нескольких деревень на Кавказе в большинстве своем были заняты тем, что вязали шерстяные вещи для черного рынка. Прибыли от таких операций, как правило немалые, делились между рабочими, управляющими предприятий, которые служили ширмой для подпольных производств, и теми партийными и министерскими работниками, которые должны были знать о них.
Другим вожделенным источником “дефицита” был Запад. Западные товары за иностранную валюту и сертификаты продавались в специальных магазинах в больших городах (все они принадлежали к категории “ограниченного доступа”). Отовариваться там могли люди, которые либо получали в этой форме часть своей заработной платы, либо те, кому время от времени дозволялось ездить на Запад и таким образом стать объектом зависти своих коллег и подчиненных. От этих людей в страну пришли такие вещи, как японские фотоаппараты, немецкие магнитофоны, итальянские костюмы и шотландское виски. Ими либо расплачивались за оказанные услуги, либо просто продавали, получая колоссальные прибыли. По тем же причинам существовал оживленный черный рынок иностранной валюты.
“Теневая экономика” оказывала также разного рода услуги. Квартиросъемщик, которому нужно было срочно отремонтировать водопровод (а в таких случаях деваться было просто некуда), мог обратиться к шабашникам, которые сделали бы это и быстрее, и лучше, чем слесарь домоуправления, но не дешевле. Шабашники работали по вечерам и в выходные дни, нередко используя инструменты и материалы, позаимствованные по месту основной работы.
Аналогичным образом поступал и оказавшийся в затруднительном положении директор предприятия, который не мог получить остро необходимые товары и услуги по официальным каналам. Для того, чтобы выполнить свой план, он обращался к “теневой экономике”. Если это открывалось, то он получал выговор. Но если бы он не выполнил план, то и он, и работники его предприятия были бы сильно урезаны в доходах, а сам он мог просто потерять свою должность.
Партия и государство, разумеется, не намерены были смотреть на подобные сделки сквозь пальцы. Они угрожали экономической монополии, которая давала хлеб многим номенклатурным работникам. Для обуздания “теневой экономики” существовала целая армия контролирующих органов. Помимо милиции, прокуратуры и судов имелась также партийно-государственная сеть Комитетов народного контроля, чьей задачей была мобилизация общественной бдительности для предотвращения и раскрытия экономических преступлений. Была также специальная государственная экономическая полиция, ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности), специализировавшаяся на проведении комплексных следственных действий, необходимых для разоблачения подпольных дельцов.
И тем не менее имелись веские причины, почему государство не предпринимало полномасштабных репрессий против подпольной экономики. Во-первых, она придавала некоторую гибкость системе, которая в противном случае была бы нестерпимо жесткой и вообще не давала бы возможности функционировать всей экономике в целом. Более того, поскольку “теневая экономика” паразитировала на официальной, ее дельцы попадали в некоторую зависимость от партийных и государственных деятелей. Они знали, что их противозаконная деятельность будет рано или поздно раскрыта или даже уже раскрыта, и потому судьба их зависела от благорасположения официальных лиц, тех, кто знал об этом. Шабашник, который пользовался инструментами и лесом, заимствованными им на той строительной площадке, где он работал, был в полном смысле слова “вассалом” своего начальника или прораба, которые позволяли ему делать это.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: