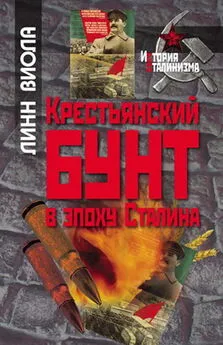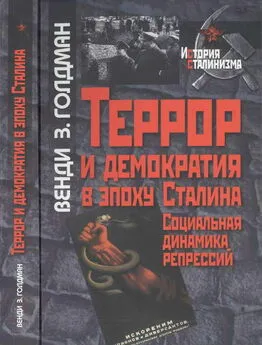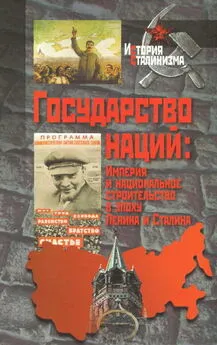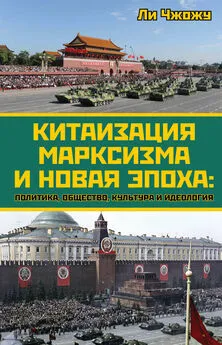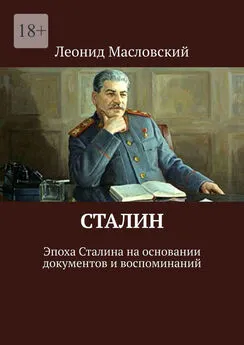Линн Виола - Крестьянский бунт в эпоху Сталина: Коллективизация и культура крестьянского сопротивления
- Название:Крестьянский бунт в эпоху Сталина: Коллективизация и культура крестьянского сопротивления
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РОССПЭН
- Год:2010
- Город:М.
- ISBN:978-5-8243-1311-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Линн Виола - Крестьянский бунт в эпоху Сталина: Коллективизация и культура крестьянского сопротивления краткое содержание
Книга канадского историка Л. Виолы посвящена переломному моменту истории Советского Союза — коллективизации сельского хозяйства. Рассматривая борьбу советского крестьянства против коллективизации как гражданскую войну между городом и деревней, автор на основе архивных материалов исследует активные и пассивные, повседневные формы и стратегии крестьянского сопротивления в СССР 1930-х и последующих годов.
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей России и СССР.
Крестьянский бунт в эпоху Сталина: Коллективизация и культура крестьянского сопротивления - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Советская власть заклеймила распространение слухов как «кулацкий агитпроп», контрреволюционное отражение агитации и пропаганды самой партии. Пренебрежительное отношение государства к слухам отрицало правду, состоявшую в том, что они представляли собой реальную угрозу и имели огромное значение как сила, способствующая мобилизации крестьян и формированию их контридеологии. Слухи о коллективизации окрасили мир в черно-белые тона, сокрушив официальные догматы классовой борьбы между богатыми и бедными крестьянами и заменив их битвой между силами добра и зла. Массовая форма этой контридеологии представляла собой в теории один из видов закулисного общественного пространства [21] См. главу 1.
, рожденного крестьянской культурой и по самой своей сути антитетичного коммунистической культуре и городской политике. Мир слухов, как ни один другой вид крестьянского сопротивления, придавал коллективизации дух и облик гражданской войны.
Мир перевернулся
Крестьянский апокалиптический кошмар возник в советской деревне отнюдь не с приходом коллективизации. Апокалиптическая традиция поселилась в умах российских крестьян за века до Октябрьской революции и долгое время была глубинной основой народного сопротивления. После 1917 г. она воспряла с новой силой и достигла пика популярности в 1920-е гг. — время перемен и неизвестности для большинства крестьян, став главным мифом, толкавшим их на сопротивление.
Эсхатологическое мышление не является уникальной чертой, присущей только России или крестьянскому обществу {169} 169 О взгляде на этот тип мышления как особую черту русской культуры см.: Бердяев Н.А. Русская идея. М., 2005.
. Оно было свойственно самым различным обществам в разные эпохи {170} 170 Funkenstein A. A Schedule for the End of the World: The Origins and Persistence of the Apocalyptic Mentality // Visions of Apocalypse: End or Rebirth? / ed. by S. Friedlander et al. New York, 1985. P. 62; Kselman T. A. Miracles and Prophecies in Nineteenth-Century France. New Brunswick, N. J., 1983. P. 80–83.
, связанная с ним ментальность не присуща каким-то определенным народам, а представляет собой социальный феномен. Подобное мышление процветает в эпохи перемен, социальных потрясений и кризисов {171} 171 Cohn N. The Pursuit of the Millennium. London, 1957. P. 22; Friedlander S. Introduction // Visions of Apocalypse. P. 5. См. также: Scott J. С Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven, 1985. P. 332; Donnelly J. J., Jr. Pastorini and Captain Rock: Millenarianism and Sectarianism in the Rockite Movement of 1821–24 // Irish Peasants: Violence and Political Unrest, 1780–1914 / ed. by S.Clark, J.J. Donnelly, Jr. Manchester, 1983. P. 104.
. Оно становится метафоричным выражением протеста, который часто проявляется через веру в пророчества, чудеса, знамения и другие сверхъестественные явления. Предсказания грядущего Апокалипсиса предваряли наступление первого тысячелетия у христиан, вдохновляли участников крестовых походов в Средние века и продолжали играть свою роль на первых этапах истории современной Европы в периоды экономической и политической нестабильности. Во всех случаях апокалиптические страсти были вызваны серьезными переменами в общественной структуре и вызывали бурю в тех слоях населения, которые эти перемены затронули сильнее всего {172} 172 Cohn N. The Pursuit of the Millennium. P. 22, 41–42, 82–83, 127–128. См. также об Англии эпохи Ренессанса: Сарр В. The Political Dimension of Apocalyptic Thought // The Apocalypse in English Renaissance Thought and Literature / ed. by С A. Patrides, J. Wittreich. Manchester, 1984. P. 93–124.
.
Похожий кризис, вызвавший всплеск апокалиптических настроений, испытало Московское государство XVII в. Раскол Русской православной церкви был, возможно, главным культурным водоразделом века, полного кровавых столкновений и народных восстаний, отделившим Смутное время от присвоения Петру I императорского титула. События XVII в. вызвали волну слухов о грядущем конце света: истово верившие в них называли Петра I Антихристом, а некоторые старообрядцы, считавшие реформы Петра и новые правила богослужения делом Сатаны {173} 173 Cherniavsky M. The Old Believers and the New Religion // The Structure of Russian History / ed. by M. Cherniavsky. New York, 1970. P. 140–188; Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв. М., 1967. С. 99–112.
, совершали акты самосожжения. Апокалиптические страсти толкали население на выступления против государства. Старообрядцам же такое мышление позволяло в привычных для себя терминах осмыслить глубокие социальные, политические и культурные перемены своего времени.
Апокалиптические верования пережили Средневековье и начало Нового времени, вновь распространились в Европе XIX в. и внесли свой вклад в полный блеска расцвет европейской науки и культуры эпохи Модерна {174} 174 Friedlander S. Themes of Decline and End in Nineteenth-Century Western Imagination // Visions of Apocalypse. P. 62, 71. См. также: Kselman Т.А. Miracles and Prophecies in Nineteenth-Century France. Chap. 3.
. Это время перемен и неизвестности было пропитано ожиданиями неминуемого конца истории, которые соперничали с более оптимистичными мечтами о грядущей революции. Россия в тот период проводила форсированную индустриализацию, которая легла тяжким бременем на население страны, вела кровопролитную и бессмысленную войну на Дальнем Востоке, а затем пережила революцию 1905 г. Эти события оказали значительное влияние на убеждения некоторых представителей российской интеллигенции. Былая самозабвенная вера в революцию для многих сменилась пессимизмом, ведущим и к разочарованию, и к надежде на духовное пробуждение {175} 175 См.: Landmarks / ed. by B. Shragin, A.Todd; tr. M.Schwartz. New York, 1977.
. Апокалиптическая тематика воплотилась в целом ряде интеллектуальных и художественных творений: от картин художников-модернистов Малевича и Кандинского до музыки Скрябина, от философских трудов Соловьева и Розанова до литературных произведений Белого, Мережковского и Блока {176} 176 О дискуссиях этого времени см.: Bethea D. M. The Shape of Apocalypse in Modern Russian Fiction. Princeton, 1989; Billington J. H. The Icon and the Axe. New York, 1970. P. 474–518 [рус. изд.: Биллингтон Дж. Икона и топор. М., 2001. — Прим. ред.]; Rosenthal В. G. Eschatology and the Appeal of Revolution// California Slavic Studies. 1980. Vol.11. P. 105–139.
. Некоторые русские поэты Серебряного века с радостью ожидали наступления конца, соединив апокалиптическую и революционную традиции в своей мечте о кровавом социальном и духовном обновлении России. Она воплотилась в образе скифов, символизировавших несущий обновление Восток и одновременно народ, крестьянские массы, которые были воплощением очистительной стихии и кары Божьей [22] Поэма Блока «Двенадцать» — замечательный пример подобного смешения революционной и апокалиптической тематики, как и романы Белого «Серебряный голубь» и «Петербург». Похожий подтекст имеют мемуары Виктора Шкловского («Сентиментальное путешествие» [см., напр., в изд.: Шкловский В. Сентиментальное путешествие. М., 1990. — Прим. ред.]) и Сергея Мстиславского (Пять дней: Начало и конец Февральской революции // Летописи революции. Берлин; Пб.; М., 1922. № 3).
.
Интервал:
Закладка: