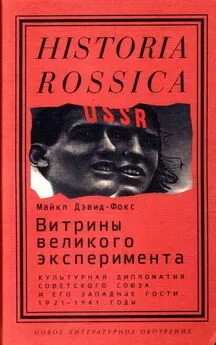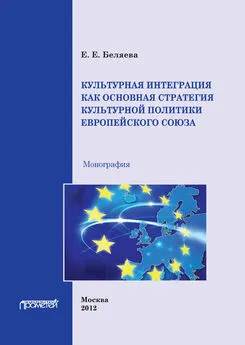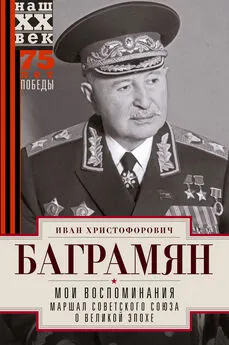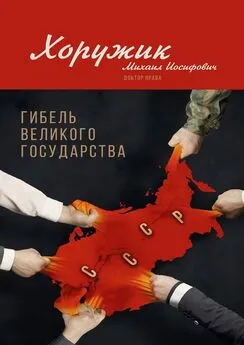Майкл Дэвид-Фокс - Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921-1941 годы
- Название:Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921-1941 годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-4448-0215-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Майкл Дэвид-Фокс - Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921-1941 годы краткое содержание
В книге исследуется издавна вызывающая споры тема «Россия и Запад», в которой смена периодов открытости и закрытости страны внешнему миру крутится между идеями отсталости и превосходства. Американский историк Майкл Дэвид-Фокс на обширном документальном материале рассказывает о визитах иностранцев в СССР в 1920 — 1930-х годах, когда коммунистический режим с помощью активной культурной дипломатии стремился объяснить всему миру, что значит быть, несмотря на бедность и отсталость, самой передовой страной, а западные интеллектуалы, ослепленные собственными амбициями и статусом «друзей» Советского Союза, не замечали ужасов голода и ГУЛАГа. Автор показывает сложную взаимосвязь внутренних и внешнеполитических факторов развития страны, предлагая по-новому оценить значение международного влияния на развитие советской системы в годы ее становления.
Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921-1941 годы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как и Фейхтвангер, Ромен Роллан, в 1937 году еще остававшийся другом СССР, публично признал процессы и аресты ответом на действительно имевший место заговор. Однако в душе он мучительно переживал. Писатель засыпал Сталина остававшимися без ответа письмами, надеясь спасти арестованных Аросева, Бухарина и др. Роллан был «исключительно горд» своей славой в Советском Союзе — к ноябрю 1937-го тираж переводов его сочинений достиг 1,3 млн. экземпляров, — тем более что во Франции его позиции после заката Народного фронта ослабели. Примечательно, что даже в конце мая 1937 года Роллан все еще думал о возможности нового путешествия в Москву. Однако в сентябре, поскольку письма его по-прежнему оставались без ответа, а репрессии только ужесточались, он через свою жену (ее сын оставался в Москве) отказался отвечать на советские просьбы о ставших уже ритуальными публичных восхвалениях {940} 940 Р. Роллан — Сталину, 18 марта, 4 августа, 20 августа, 16 сентября, 29 декабря 1937 г. // РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 775. Л. 140–141,145–146,149–150,154–155; Мария Роллан (Кудашева) — Михаилу Аплетину, 4 сентября 1937 г. // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 741. Л. 70–71; о новой поездке в Москву: Роллан — Аплетину, 2 мая 1937 г. // Там же. Л. 42–43; Fisher D.J. Romain Rolland and the Politics of Intellectual Engagement. Berkeley: University of California, 1988. P. 274–278 [цит. с. 278].
. [80] Сталин и другие члены Политбюро знали из писем Кудашевой о том, что Роллан после своего первого, состоявшегося в 1935 году, визита в СССР предполагал приехать еще раз в 1937-м (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 775. Л. 123).
В письме, написанном в октябре 1938 года, Кудашева предупреждала Аплетина об этой перемене настроения Роллана: «Телеграммы ни к чему и не надо звонить по телефону… Сейчас на Западе не до “юбилеев” и “поздравлений”… Нельзя вечно отрывать его на ерунду… и вредно даже» {941} 941 М.П. Роллан — Михаилу Аплетину, 26 октября 1938 г. // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 754. Л. 40.
.
В то же время сталинистский комплекс превосходства, теперь отягощенный еще и ксенофобским компонентом, сыграл свою роль в крушении иллюзий Роллана. Писатель критиковал советский шовинизм в резком письме, которое он раз за разом пытался опубликовать в советской печати. Письмо, переведенное Кудашевой на русский язык в ноябре 1937 года, было адресовано двум советским школьницам, написавшим Роллану:
Вредно и опасно быть слишком гордыми, какими кажетесь мне Вы, слишком самодовольными… Вы не правы, считая, что он [СССР] уже перегнал другие страны. (В СССР, пишете Вы, все самое лучшее. Лучшие ученые, лучшие писатели, лучшие музыканты, спортсмены, инженеры, изобретатели)… Надо помнить о величии СССР и его интернационализме. Вот почему надо следить за тем, чтобы сыны СССР не отказывались от пангуманизма и не впадали в национализм.
Роллан смело заключал, что национальная гордость есть одна из первых фаз фашизма. Это письмо, разумеется, никогда не было напечатано, но еще возмутительнее было то, что почтенный писатель, прославлявшийся как гигант в советской культуре, так и не удостоился ответа на свои повторявшиеся запросы. Когда начались массовые репрессии, Роллан проявил осторожность и не порвал немедленно с Советским Союзом, хотя и выразил в пьесе «Робеспьер», написанной в 1938 году, свои сомнения насчет политического террора. После подписания в 1939 году советско-германского пакта о ненападении Роллан без лишнего шума оставил свой пост в Обществе культурного сближения с СССР {942} 942 Р. Роллан — Гале и Наташе Исаевым (Новгород), 26 ноября 1937 г.; М. Роллан — Михаилу Аплетину, 27 ноября и 29 декабря 1937 г. // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 74. Л. 97, 98–99, 104. О роллановском «Робеспьере» см.: Duchatelet B. Remain Rolland tel qu'en lui-meme. Paris: Albin Michel, 2002.
.
Несмотря на то что поворот к репрессиям убавил число западных интеллектуалов, желавших записаться в «друзья Советского Союза», в результате драматичных перемен в Европе в конце 1930-х годов (победа националистов Франко в гражданской войне, Мюнхенский сговор 1938 года, вторжение нацистов в Чехословакию в следующем году и начало Второй мировой войны) перед СССР открылись новые возможности для осуществления международной политики культурного покровительства. Советские власти могли предоставить помощь обложенным со всех сторон сочувствующим и давним верным «друзьям» или даже спасти их. Например, глава ССП Александр Фадеев хлопотал о помощи испанским писателям, а в особых случаях — и об их эмиграции в СССР; в 1939 году он отвечал на прошения отчаявшихся испанских беженцев во Франции {943} 943 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 22. Л. 8, 13, 17.
. После Мюнхенского сговора атмосфера в Праге (главном центре советской культурной дипломатии в течение более чем десяти лет) стала неприветливой. В одном из дипломатических отчетов отмечалось: «Часть… людей, считавших раньше модным и даже почетным вести дружбу с Советским Союзом, начала прятаться в кусты и выпадает из сферы нашего влияния». В Словакии всякая советская культурная деятельность резко прекратилась после прихода к власти в конце 1938 года клерикально-фашистского режима Йозефа Тисо. Глава пражского Общества сближения с Новой Россией Зденек Неедлы после встречи с советским послом ограничил деятельность Общества, опасаясь последствий ожидавшегося в любой момент запрета чехословацкой компартии. Неедлы согласился, что основной целью его Общества должно стать опровержение заявлений об ответственности СССР за Мюнхенский сговор. В Москве временному председателю ВОКСа Смирнову оставалось только грубо заявить, что не следует сохранять никаких контактов с ненадежными друзьями за границей. Когда нацистские войска 15 марта 1939 года вошли в Богемию и Моравию, Неедлы удалось ускользнуть от гестапо и получить советский паспорт в посольстве, после чего он уехал в СССР {944} 944 В. Яковлев, 2-й секретарь Полпредства СССР в Чехословакии — во 2-й Западный Отдел НКИД, тов. Вайпштейну и Пред. ВОКС тов. Смирнову, Прага, 19 октября 1938 г. // ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 2а. Д. 2. Л. 154–162; Смирнов — Яковлеву, 10 марта 1938 г. // Там же. Л. 24; о Неедлы см.: В.Ф. Смирнов — В.М. Молотову, 14 мая 1939 г. // Там же. Д. 3. Л. 4 (см. также л. 66).
. В Прагу он вернулся только после войны, сталинским ставленником — министром культуры в 1948–1953 годах.
Конкретные выгоды для западных интеллектуалов, которые и после массовых репрессий сохранили свои советские контакты, пожалуй, лучше всего иллюстрируются перепиской конца 1930-х годов Аплетина с Б. Брехтом, с апреля 1939 года жившим в Швейцарии. Естественно, письма хранят полное молчание о жестоких репрессиях против немецкой диаспоры и антифашистских литераторов-эмигрантов в Москве, нет в них упоминаний и об арестах друга Брехта С. Третьякова летом 1937 года и Всеволода Мейерхольда — в 1939-м. Неизменно заботливый, Аплетин очень хотел углубить сотрудничество с Брехтом настолько, насколько это было приемлемо для последнего. Он помогал Брехту публиковаться в «Литературной газете», с большим энтузиазмом писал об успехе его пьесы «Жизнь Галилея» в СССР, пытался в 1939 году добыть для него денег, чтобы издать его новую пьесу «Мамаша Кураж», и слал драматургу высказывания Сталина о международном положении в немецком переводе. Проникнуть в суть позиции самого Брехта в тот период позволяют сделанные Вальтером Беньямином записи его разговоров с писателем. В частности, Брехт заявлял: «В России диктатура состоит во власти над пролетариатом. Нам не стоит отрекаться от нее, покуда эта диктатура делает хотя бы что-то для пролетариата». Когда Беньямин упомянул, что у Брехта есть друзья в СССР, тот ответил: «На самом деле у меня там нет друзей. У москвичей тоже нет друзей, как и у мертвых их не бывает» {945} 945 Benjamin W. Conversations with Brecht// Benjamin W. Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings / Ed. P. Demetz, trans. E. Jephcott. New York: Schocken Books, 1978. P. 217–219.
. Однако советские связи в 1940 году по-прежнему оставались полезными для изгнанного драматурга: Аплетин выхлопотал выплату ему наличными по всем еще причитавшимся советским гонорарам и помог получить разрешение на проезд через весь Советский Союз до Владивостока {946} 946 Бертольт Брехт — Михаилу Аплетину [не позднее 5 февраля 1939 г.]// РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 11. Д. 412. Л. 4; Аплетин — Брехту, 5 февраля, 20 мая, 10 июня, 29 июля, 23 августа 1939 г. // Там же. Л. 5–6, 9, 13, 15, 17; Брехт — Аплетину, 4 июля 1940 г. // Там же. Л. 22.
. Оттуда Брехт отправился морем в США и прибыл в Калифорнию за день до начала операции «Барбаросса».
Интервал:
Закладка: