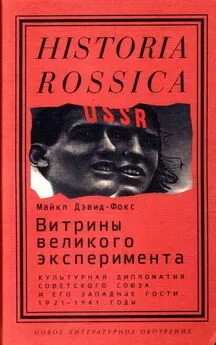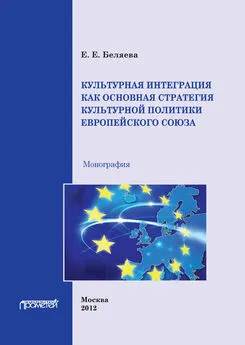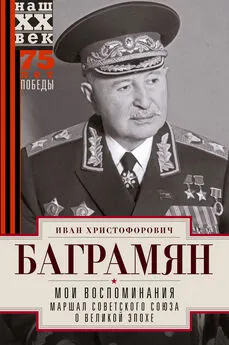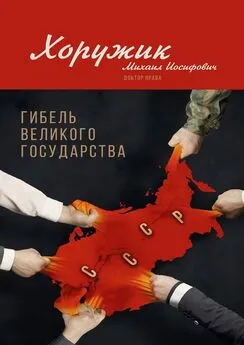Майкл Дэвид-Фокс - Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921-1941 годы
- Название:Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921-1941 годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-4448-0215-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Майкл Дэвид-Фокс - Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921-1941 годы краткое содержание
В книге исследуется издавна вызывающая споры тема «Россия и Запад», в которой смена периодов открытости и закрытости страны внешнему миру крутится между идеями отсталости и превосходства. Американский историк Майкл Дэвид-Фокс на обширном документальном материале рассказывает о визитах иностранцев в СССР в 1920 — 1930-х годах, когда коммунистический режим с помощью активной культурной дипломатии стремился объяснить всему миру, что значит быть, несмотря на бедность и отсталость, самой передовой страной, а западные интеллектуалы, ослепленные собственными амбициями и статусом «друзей» Советского Союза, не замечали ужасов голода и ГУЛАГа. Автор показывает сложную взаимосвязь внутренних и внешнеполитических факторов развития страны, предлагая по-новому оценить значение международного влияния на развитие советской системы в годы ее становления.
Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921-1941 годы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тому, что потемкинские деревни екатерининских времен стали одним из самых живучих мировых мифов, были серьезные основания: в этом мифе воплотилась изощренная, иерархичная политическая драматургия, одинаково убедительная как для иностранных, так и для своих собственных наблюдателей. Но легенда об обманчивых фасадах деревень важна и по другой причине: оспаривая российские претензии на великие достижения, она увековечивала диалог о превосходстве и неполноценности между Россией и Западом, на протяжении трех столетий испытывавший мощное влияние разнонаправленных геополитических, культурных и, позднее, идеологических течений.
Вопреки этой непрерывности, ряд вроде бы очевидных сходств между советским обращением с иностранцами и таковым в более ранние периоды российской истории рассеивается при внимательном анализе. Церемонии, надзор и попытки контролировать пересечение своих границ были характерны для множества предмодерных и модерных государств. То, что подобные практики преобладали в старой России, еще не является доказательством их прямого наследования советским режимом. Прослеживание непрерывности явлений через века становится непростой задачей еще и потому, что зачастую мы изучаем противоречивые или допускавшие двойной стандарт позиции и стратегии. Так, на основе обширной литературы Эрик Лор доказывает, что Московское царство последовательно поощряло приезд иностранцев на царскую службу, но ограничивало эмиграцию и заграничные путешествия собственных подданных. Эта стратегия была далека от единообразно ксенофобской. Хорошо известные московские поселения (слободы) для иноземцев могут рассматриваться как некая аномалия, если учитывать ту важнейшую роль, какую постоянный приток иноземцев играл в военной и экономической модернизации Московии, а в таком контексте изоляция иностранных поселенцев становится отражением изначальной реакции церкви на быстро ширящееся взаимодействие между Московией и Европой в XVII веке {17} 17 См. подобную аргументацию в книге: Lohr E. Russian Citizenship: From Empire to Soviet Union. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2012. Ch. 1, которая опирается на работу: Орленко С.П. Выходцы из Западной Европы в России: Правовой статус и реальное положение. М.: Древлехранилище, 2004. О сложном соотношении между ассимиляцией и изоляцией иностранцев в период позднего Московского государства см.: Опарина Т.А. Иноземцы в России.
.
Наиболее известные теории континуитета, заходящие в своем анализе за рубеж 1917 года, включая смелые попытки провести прямые параллели между Московским царством и современными институтами и практиками, также не могут вычертить прямых «родословных». Их авторы должны глубоко погружаться в историческую подпочву, для того чтобы выявить скрытые и в конечном счете весьма гипотетические связи: глубинный менталитет, коренную динамику политической культуры или структурный общий знаменатель циклических социально-политических моделей {18} 18 См.: Keenan E.L. Muscovite Political Folkways // Russian Review. 1986. Vol. 45. P. 115–181; Hellie R. The Structure of Modern Russian History: Toward a Dynamic Model// Russian History. 1977. Vol.4. №1. P. 1–22 и ответ Ричарда Уортмана: Wortman R. Remarks on the Service State Interpretation // Ibid. P. 39–41.
.
Более убедительной, чем теории прямого наследования или советского возвращения к российским традициям, представляется выдвинутая Альфредом Дж. Рибером концепция устойчивых и долгосрочных факторов, обуславливающих сходные реакции на внешний мир. Целью концепции является опровержение мифов о постоянных и единых корнях российского и советского поведения {19} 19 Rieber A.J. Persistent Factors in Russian Foreign Policy: An Interpretive Essay // Imperial Russian Foreign Policy / Ed. H. Ragsdale. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 315–359; Idem. How Persistent are Persistent Factors? // Russian Foreign Policy in the Twenty-First Century and the Shadow of the Past / Ed. R. Legvold. New York: Columbia University Press, 2007. P. 205–278.
. В настоящей книге я доказываю, что формирование советской системы приема иностранных гостей и попытка в межвоенный период создать международный образ Советского Союза были во многом ориентированы на Запад, т.е., в тот период, на Западную и Центральную Европу, а также на США в качестве отдельной, по-иному воспринимаемой подкатегории. Центральным «устойчивым фактором», который новые, большевистские правители России переняли у своих самодержавных предшественников, стал вековечный императив — преодолеть отставание от западных держав, с той оговоркой, что в советской версии этот императив стал гораздо более претенциозным. Большевистская революция стремилась даже не догнать, а перегнать — перепрыгнуть через промышленно развитые страны в новую, альтернативную модерность {20} 20 См. главу «The Intelligentsia, the Masses, and the West: Particularities of Russian Soviet Modernity» в: David-Fox M. Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Soviet Russia. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press [готовится к печати].
. Однако ведь и перескакивание через стадию капитализма предполагало усвоение, принятие или отрицание опыта развитых стран. Отсюда — продолжающаяся одержимость сравнениями с Западом.
Естественно, понятие «Запад» было многозначно. Каждая крупная страна, крупная культура имела давние традиции собственных взаимодействий и общения с Россией — так формировалось полученное Советским Союзом наследие. С самого начала Нового времени российская дорога в Европу нередко пролегала через Германию, при этом важность Центральной Европы для России приобретала особый смысл в свете тех крупных различий, которые отделяли части Запада друг от друга. Это и различие между континентальной Европой, Британией и США с точки зрения роли государства в стране; и различие между, с одной стороны, либеральными демократиями, возникшими после 1789 года, ас другой — монархиями и империями Центральной Европы; и различие между странами, представлявшими собой наиболее влиятельные научные и культурные модели, — Германией и Францией. В межвоенный период такие ключевые различия непосредственно влияли на политические и культурные отношения между западными странами. Например, Британская империя по-прежнему зачастую рассматривалась советской стороной как главный геополитический противник, специфическая же притягательность США заключалась в представлениях об эффективном «американизме» и современном индустриальном развитии. Однако советское восприятие Соединенных Штатов как страны юной, «неотесанной», менее культурной, чем Европа, выделяло Америку в некую своеобразную категорию среди стран Запада. Советские взаимоотношения с гостями из Западной и Центральной Европы вели напрямую к подъему советской культурной дипломатии и попыткам коммунистов в межвоенное время инвертировать старый дискурс российской отсталости — отсюда особое внимание к этим визитерам и в настоящей книге. В то же время прием большого числа гостей из США и репутация Америки как альтернативы Европе также составляют в монографии важные темы. Иными словами, это повествование об отношениях между более чем двумя сторонами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: