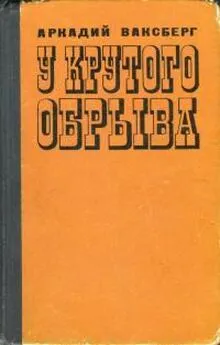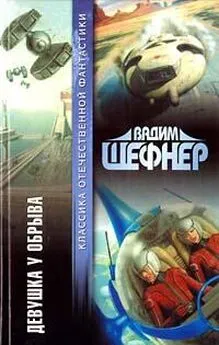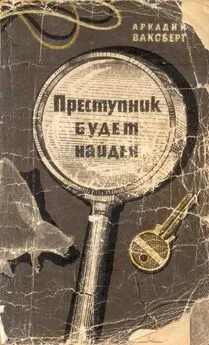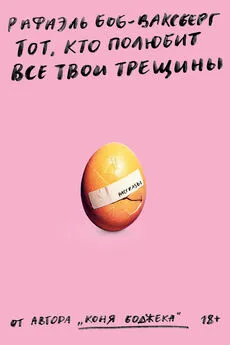Аркадий Ваксберг - У крутого обрыва
- Название:У крутого обрыва
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аркадий Ваксберг - У крутого обрыва краткое содержание
У крутого обрыва - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И это будет началом ее конца.
Как же бороться нам с хамством, если оценки того, что есть хамство, а что — милая и непринужденная шутка, столь неодинаковы, а то и полярны у разных людей? Закон четок, он формулирует правовую норму, тщательно выверяя каждую букву, каждую запятую, чтобы исключить возможность двоякого толкования, чтобы правило поведения было действительно правилом — единым и всеобщим.
Нравственная норма нигде не записана, ей чужды безапелляционная чеканность и категоричность, но значит ли это, что она так уж зыбка, противоречива и субъективна?
Вспоминаю дискуссию, разгоревшуюся на читательской конференции. «Если кто-то хочет спать, — горячился один из спорщиков, — а я — петь и танцевать, то почему именно я должен уважать его желание, а не он — мое? Почему я должен соблюдать тишину, а не он — присоединиться к моему веселью?»
Конечно, требовать тишины под угрозой правовых санкций можно только в ночное время. Но какой воспитанный человек в какое бы то ни было время станет плясать над ухом спящего? И какой воспитанный, придя в компанию, где поют и танцуют, завалится спать? Все это кажется элементарным, очевидным, само собой разумеющимся. Как же тогда получилось, что серьезные люди могли спорить о вопросе, которого попросту не существует?
Браниться нехорошо, это знает каждый, но, тысячу раз повторенное, такое нравоучение едва ли проймет того, кто привык «смотреть на вещи просто». Не полезней ли уяснение «правила» не столь категоричного, но зато более жизненного: если плоские анекдоты встречают с жеребячьим ржанием трое или четверо твоих друзей, это еще не значит, что с таким же успехом ты их можешь рассказывать в незнакомой компании, где критерии остроумия, быть может, совершенно иные, а представления о человеческом достоинстве решительно расходятся с твоими.
Подобных вопросов, подсказанных самой жизнью, можно было бы привести множество. Вопросов не надуманных, не риторических, а сугубо практических. Не такое это малое дело — научиться вести себя в обществе: на производстве, в быту, в дороге, со случайными и неслучайными спутниками на житейских перекрестках.
1975
ВНИМАНИЕ: ЧЕЛОВЕК!
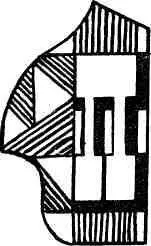
Пришел убитый горем отец, разложил материалы, собранные в двух объемистых папках. Целый день я читал документы, рассказавшие о драме, суть которой можно изложить в нескольких строчках.
Молодой московский инженер К. стал жертвой собственной смелости. Он отправился один в труднодоступные районы Дальнего Востока, никому не сообщив о точном маршруте и не оставив контрольных дат возвращения. Следы его затерялись.
Для поиска пропавшего инженера, как это в подобных случаях всегда происходит, были приняты все возможные меры. В розыск включились Академия наук СССР, ВЦСПС, Хабаровский крайисполком. Десятки часов над предполагаемым районом бедствия кружили вертолеты. Поисковые партии до глубокой зимы не покидали тайги. Множество спортсменов, геологов, оленеводов, отложив все другие дела, прошли в горах и непролазных лесных дебрях сотни километров, надеясь напасть на след инженера. Все было напрасно: он, очевидно, погиб.
Печальная эта история могла бы послужить поводом для серьезного разговора о серьезных вещах. Об ответственности за себя и за других. О риске разумном и неразумном. О том, что с природою шутки плохи. О правилах страховки, контроля и взаимовыручки, которые придуманы не для того, чтобы кому-то мешать проявить свою смелость, а для того, чтобы оградить от трагических случайностей, спасти жизнь, которая в нашем обществе — ни с чем не сравнимая ценность.
Само собой разумеется, разговор этот предполагает огромную деликатность, величайший такт. А как же иначе? Ведь человек погиб. Да, он нарушил правила организации таких походов. Но за свою ошибку он расплатился жизнью. Он был неправ, но и в неправоте своей ничем не погрешил против законов родной страны, против кодекса чести советского гражданина. Он ушел из жизни, оставив после себя не проклятья и укоры, а добрую память у всех, кто его хорошо знал.
Вскоре после драмы в тайге один массовый журнал опубликовал статью, где подробно разбирается этот случай. Я читаю статью, и меня не покидает странное чувство. Все вроде бы верно, я готов подписаться под каждой мыслью, которую так последовательно и энергично проводит автор. Он горячо развенчивает ложную романтику одиночного туризма по трудным маршрутам, он убедительно доказывает, что риск, которому турист подвергает себя в таких путешествиях, ничем не оправдан. Отчего же, чем дальше, тем больше, эта статья вызывает во мне протест? Отчего, дочитав до конца, я уже забываю о том, что, по существу, она полезна и справедлива?
Оттого, что в публицистическом запале автор избрал тональность, обидную для памяти погибшего, чье имя к тому же названо полностью. Для его родных и друзей. И даже для тех, кто никогда не знал инженера К., но кому небезразличны такие понятия, как человеческое достоинство и честь, доброе имя и долг живых перед теми, кого уже нет.
Позволительно ли даже ради правого дела писать о жертве несчастья, о погибшем, который, повторяю, не преступник и не бесчестный человек, что он «неуважителен», «самонадеян», что он «турирующий одиночка», посягнувший на «закон человеческого общежития» и что вообще его поступок сродни «анархизму» и «авантюризму»? Можно ли, хотя бы и между строк, упрекать его, мертвого, что на поиски было израсходовано денег — много, полето-часов — столько-то, а сверх того усилия спасателей — усилия, которые ничем не измерить, не оценить? Разве это не норма нашей жизни — помогать попавшему в беду, не считаясь ни с деньгами, ни с силами, помогать, независимо от того, как и почему случилась беда? И разве когда-нибудь, даже спасенному, а не мертвому, у нас предъявляется счет, хотя бы и фигуральный, за расходы на поиски, в какую бы копеечку они ни влетели?
Забота о человеке — самая характерная, определяющая черта нашей жизни. Странно выглядит любая попытка превратить кого бы то ни было в назидательный пример, в иллюстрацию, не считаясь при этом с его человеческой сутью. А как раз таким, лишенным плоти и крови, безликим «примером на тему» предстал перед нами инженер К.
Ну, право, какой же он турист в том смысле, в каком вообще употребляется это слово — даже и при самом широком его толковании? Имея за плечами богатый опыт сложнейших экспедиций, он давно ставил перед собой задачу доказать безграничные возможности человеческого организма приспособиться к самым суровым условиям жизни. Движимый не любопытством, не честолюбием, а только научными целями, он стремился поставить эксперимент на себе, никого не подвергая риску, — примерами подобного рода полна история науки. Очень часто такие эксперименты кончались трагически. Порой в них и не было острой нужды. Но, насколько я знаю, даже напрасно погибшие не подвергались потом неуместным упрекам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: