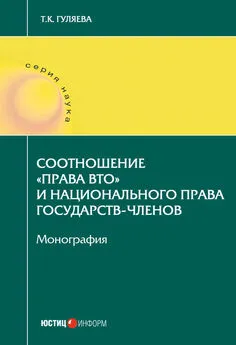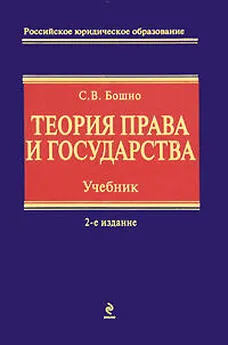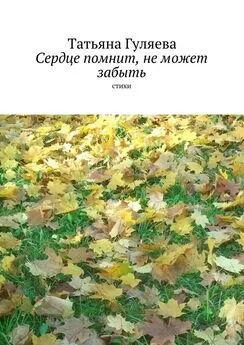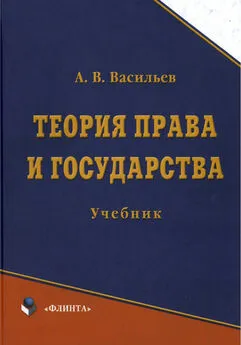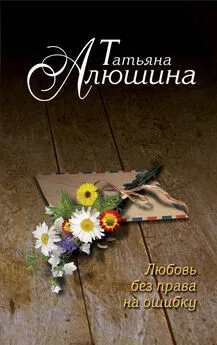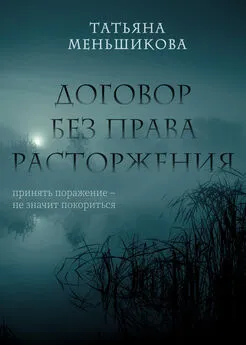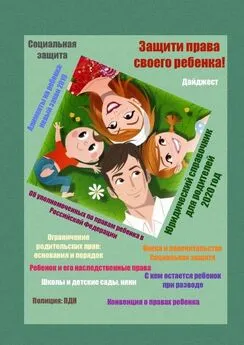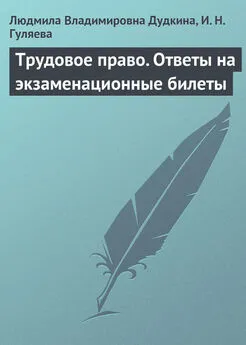Татьяна Гуляева - Соотношение «права ВТО» и национального права государств-членов
- Название:Соотношение «права ВТО» и национального права государств-членов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Юстицинформ
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7205-1380-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Гуляева - Соотношение «права ВТО» и национального права государств-членов краткое содержание
Отдельные положения монографии могут быть использованы профильными министерствами и ведомствами, действующими в области международных экономических и торговых отношений.
Настоящее издание может получить применение в ходе преподавания дисциплин: «международное право», «международное экономическое право», «право международных организаций» и «право ВТО» в рамках подготовки бакалавров и магистров по специальности «Юриспруденция».
Соотношение «права ВТО» и национального права государств-членов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В-третьих, действие норм «права ВТО» затрагивает защиту интересов частных лиц, занятых в сфере международной торговли. – С. Чарновитц совершенно верно отмечает, что положения соглашений ВТО напрямую воздействуют на права частных лиц [403]. Несмотря на то, что правительствам предоставлена возможность вводить меры в отношении другого члена, нарушавшего свои обязательства, они должны принимать во внимание интересы не только государства, но и частных лиц [404].
В науке международного права доктринальные исследования оперируют различной терминологией применительно к феномену так называемого «прямого действия» международных договоров, в частности, соглашений ВТО.
Наиболее часто используются термины «прямой эффект» [405](«direct effect» (англ.) [406], «un effet direct» (франц.) [407], «el effecto directo» (исп.) [408]), «прямое (непосредственное) применение» («direct application» (англ.) [409], «l’application directe» (франц.) [410], «la aplication directa» (исп.) [411]), «самоисполнимость» («self-executing» (англ.) [412], «self-executing» (франц.), «autoejecutable» (исп.)) и «прямое действие» [413].
Однако их использование зачастую вызывает определенные противоречия [414].
Например, Ф. Джекобс в своей работе «Введение в действие международных договоров в национальном праве» использует термин «прямой эффект», под которым понимает применение положений международного договора в национальных судах [415].
А.С. Исполинов предлагает использовать термин «прямое действие» норм международного договора, под которым понимает ситуации, «когда частные лица используют нормы международного договора (например, соглашений ВТО) для обоснования своей позиции при рассмотрении спора в национальном суде, а национальный суд применяет эти нормы для разрешения спора» [416].
И. Гудков и Н.М. Мизулин [417]в качестве признаков «прямого действия» понимают интегрированность норм ВТО во внутренние правовые системы государств-членов, порождение правовых последствий для частных лиц и обеспечение защитой национальных судов.
В статье «Применение права Всемирной торговой организации судами участников ВТО: международный и зарубежный опыт» С.И. Щеголев использует термин «прямое (непосредственное) применение», означающее «признание незаконными нормативно-правовых актов, противоречащих требованиям ВТО, или возмещение частным лицам убытков, причиненных действиями государственных органов, правомерных с точки зрения внутригосударственного права, но противоречащих нормам организации» [418]. Изучив судебную практику, С.И. Щеголев выделяет два способа применения норм ВТО судами, одним из которых является «прямое (непосредственное) применение». Оно допускается, когда это предусмотрено самими членами ВТО посредством имплементации положений ВТО или ссылки на ее нормы в национальном праве. Более того, С.И. Щеголев утверждает, что «прямое применение» норм некоторых соглашений ВТО возможно в связи с особенностями этих соглашений [419].
Т. Котье также использует термин «прямое применение». По его мнению, он означает концепцию, согласно которой частное лицо в государстве (или Союзе) вправе основывать свой иск и получать возмещение в национальных судах этого государства против другого частного лица или государства на основе обязательств по международному договору [420]. Напротив, Дж. Джексон [421]утверждает, что «прямое применение» позволяет ответить на вопрос, в какой степени нормы международного договора рассматриваются как нормы национального права без последующего акта трансформации, и вправе ли частные лица подавать иск на основе договорной нормы, а правительства применять ее как часть национального права.
Противоположную точку зрения занимает П. Ван де Боше [422], который полагает, что вышеуказанный термин, т. е. признание международного соглашения частью национального права без соответствующего акта трансформации, или «самоисполнимость», который используют А. Ауст [423]и Я. Броунли [424], следует отличать от термина «прямой эффект» – применения частным лицом норм международного соглашения.
Таким образом, в доктрине международного права отсутствует единство подходов при определении терминологии по вопросу действия соглашений ВТО в национальной правовой системе государств-членов ВТО.
Однако при всем многообразии терминологии явно прослеживается один общий момент. Термины «прямой эффект», «прямое действие», «прямое (непосредственное) применение» и «самоисполнимость» относятся к тождественным концепциям при использовании различных слов. «Прямое применение» и «самоисполнимость» практически идентичны [425], за исключением «самоисполнимости», которая первоначально использовалась в судах США и классифицировалась как доктрина национального права [426]. Арманд де Мистрал и Я. Винтер утверждают, что несмотря на определенную схожесть этих категорий, каждая из них обладает присущей ей спецификой [427]. Дж. Джексон предлагает разграничивать «прямое применение» и «прямой эффект». Он использует термин «применимость» для обозначения вопроса, может ли частное лицо применять норму международного соглашения как «закон», даже если эта норма применяется напрямую [428]. Схожие воззрения представлены в работе П. Ван де Боше [429]. Он полагает, что во многих юрисдикциях вопрос «прямого эффекта» – это вопрос «применимости», который следует отличать от вопроса «прямого применения», означающего вопрос, нужен ли акт трансформации для международного соглашения для того, чтобы стать частью национального права. Так, например, «право ВТО» стало частью права ЕС без акта трансформации.
А.С. Дедусенко в своей диссертации «Международное торговое право: понятие, принципы и основные институты» приходит к выводу, что в случае если нормы договора санкционированы государством, т. е. являются «самоисполнимыми», то можно говорить о «прямом действии» в национальном праве [430].
Напротив, Л.П. Ануфриева признает ошибочным предположения об отождествлении «прямого действия» международного права в национально·-правовой области и «самоисполнимости» международно-правовых актов или норм [431]. Она соглашается с позицией С.В. Черниченко в том, что хотя и договор, «который для своего осуществления не требует принятия участниками специального законодательного акта, поскольку его правила детальны и конкретны» [432], «имманентные реализации положений договора во внутренней сфере государства имеют место и в этом случае» [433]. Л.П. Ануфриева утверждает, что «самоисполнимость норм договора» означает санкционированность со стороны государства и направленность норм на регулирование внутригосударственных отношений. Именно эти нормы договора и нуждаются в издании «трансформационного акта» со стороны государства [434], а «несамоисполнимые» нормы требуют осуществления конкретизации на национальном уровне государства [435].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: