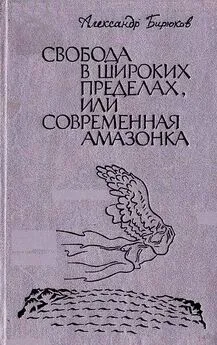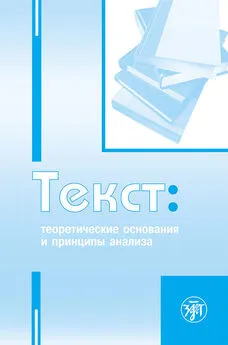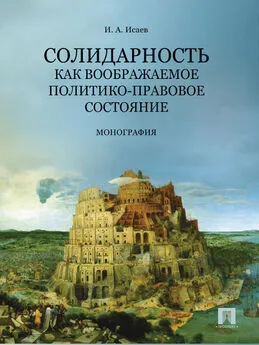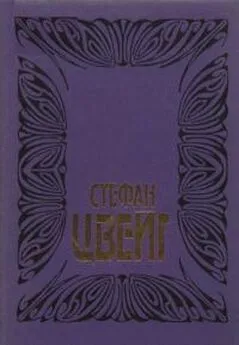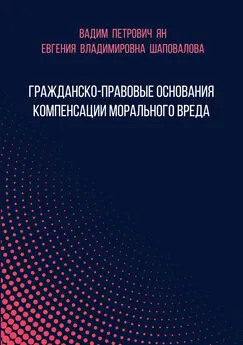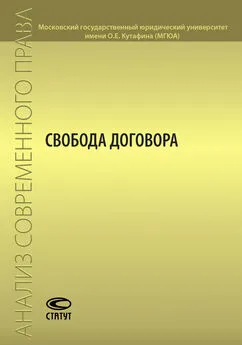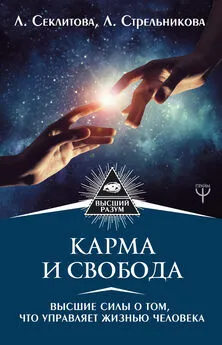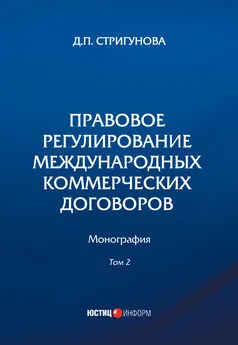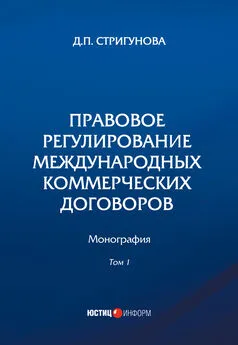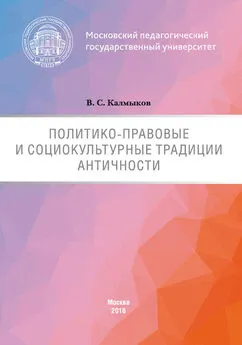Артем Карапетов - Свобода договора и ее пределы. Том 1. Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений
- Название:Свобода договора и ее пределы. Том 1. Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-8354-0870-2, 978-5-8354-0869-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артем Карапетов - Свобода договора и ее пределы. Том 1. Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений краткое содержание
Книга может быть интересна ученым, преподавателям, судьям, адвокатам, студентам юридических вузов и всем юристам, которые интересуются вопросами частного права. Книга (в особенности ее первый том) может быть также полезна юристам и экономистам, изучающим взаимосвязь экономики и права.
Свобода договора и ее пределы. Том 1. Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Постепенно, по мере становления государств и современных армий, цена набегов становилась все выше из-за роста вероятности столкновения с эффективным сопротивлением. Одновременно рост производительности труда делал сравнительно более эффективными мирную экономическую деятельность и торговлю все возрастающим объемом излишков, и все большее и большее количество групп волей или неволей переходило к производственно-меновому способу удовлетворения своих потребностей в товарах. В итоге постепенно именно рыночный обмен становился краеугольным камнем развития экономики. Натуральное хозяйство исчезало по мере развития производительности труда, и в мире воцарилась новая эра рыночной экономики. Все больше людей работало не для того, чтобы потреблять результаты своего труда, а для того, чтобы обменивать их на разнообразные экономические и иные блага.
Для обслуживания этой сложнейшей системы тотального обмена неизбежно выделилась специальность профессиональных торговцев. Одновременно в рыночный обмен постепенно включались объекты, чей свободный рыночный оборот был ранее немыслим, – земля и личный труд [72], а затем интеллектуальная собственность и др. В результате и соответствующие группы и общины, и любой свободный человек, так или иначе, оказывались вовлеченными в глобальную систему разделения труда и экономического обмена, включая слуг, незакрепощенных крестьян, живописцев и военных наемников. Все начинали что-либо выменивать на то, что могли произвести сами. Как замечал Адам Смит, постепенно складывалась социальная структура, в рамках которой «каждый человек живет обменом или становится в известной мере торговцем, а само общество превращается… в торговый союз» [73].
Безусловно, этот процесс был крайне долог и привел к окончательному утверждению гегемонии рыночной парадигмы, построенной на свободном и взаимовыгодном обмене, видимо, только к Новому времени, да и то только в самых развитых странах. В период Античности и в Средневековье мы можем наблюдать лишь постепенное появление ростков рыночной экономики, причем появление хотя и достаточно отчетливое, но нелинейное и зачастую неустойчивое. Господство натурального хозяйства, общинных, рабовладельческих, феодальных, цеховых и иных нерыночных экономических форматов долгое время отводило рынку достаточно ограниченные пространства.
В Европе рыночные взаимосвязи усилились в эпоху поздней Республики и расцвета Римской империи. Во II в. н. э., в эпоху Антонинов, Римская империя достигла высокой стадии общественного разделения труда и торговли. И хотя эффективность производства была еще крайне низка, процветали ремесла, а Средиземное море, не боясь пиратства, бороздили тысячи торговых судов, перевозящих египетскую пшеницу и многие другие товары.
Как писал знаменитый историк Древнего Рима и правовед Теодор Моммзен, «коммерческий дух охватил всю нацию… стремление к приобретению капитала… проникло… во все сферы деятельности». Катон старший, главный радетель общественной морали в эпоху поздней Республики, в традиционном для себя стиле наставлений утверждал: «Мужчины должны увеличивать свое состояние; только те из них достойны похвалы и преисполнены божественного духа, после смерти которых оказывается… что они нажили более того, что получили по наследству» [74].
Моммзен отмечает, что «вся жизнь римлян была проникнута купеческой аккуратностью, честностью и порядочностью» [75]. Полибий отмечал, что «в Риме никто никому ничего не дарит, если не обязан это делать» [76]. Как пишет выдающийся экономический историк М. Ростовцев, римские банкиры и купцы заполонили собой все средиземноморские города [77].
Рыночная свобода по сравнению с прежней эпохой достигла достаточно высокого уровня. Судя по всему, «дух капитализма», о котором так много писали В. Зомбарт и другие исследователи капитализма [78], вопреки знаменитой теории М. Вебера [79]не был исключительным порождением протестантской этики, но проявился впервые уже в древнеримской экономике. Рационализация экономической деятельности, стремление к обогащению и индивидуализм проявились здесь в полную силу.
В период расцвета Империи правительства старались минимизировать вмешательства в свободную рыночную экономику. Как, видимо, с некоторой долей условности, пишет М. Ростовцев, в ту эпоху начала преобладать политика laissez faire [80]. Когда государство в чем-то нуждалось, оно, как правило, стремилось не прибегать к конфискациям, а приобретало необходимое у купцов [81].
Сказанное не должно трактоваться как констатация доминирования рыночной парадигмы экономического развития Древнего Рима в период расцвета. Рост удельного веса рыночной составляющей экономики был, безусловно, значителен и по тем временам, наверное, не имел аналогов, но, видимо, прав Поланьи, который отмечает, что даже в тот период натуральное самообеспечение домохозяйств преобладало [82]. Этот тезис подтверждается и тем, что экономическая база Империи оказалась крайне непрочной.
Уже в IV в. страна начала погружаться в пучину экономических потрясений и инфляции, роста интенсивности государственного вмешательства в рыночный оборот, непродуманных реквизиций, тотального насилия, затухания торговли, деградации городов и постепенного увядания ростков рынка.
Тотально распространились так называемые литургии, в рамках которых государство возлагало на подданных те или иные социальные функции и обременения вплоть до принудительного труда, перевозок, поставок для государственных нужд и т. п. По мере разрастания бюджетных проблем и демонетизации оборота государство все чаще вторгалось в свободную экономику и директивным путем – под страхом жесточайших репрессий принуждало участников оборота к той или иной форме экономической деятельности [83].
От экономического либерализма времен Октавиана Августа и первых императоров по мере угасания Империи оставалось все меньше следов [84]. Как писал Альфред Маршалл, в Римской империи времен упадка «частная предприимчивость была задушена неизменно возрастающим могуществом вездесущего государства» [85].
В итоге сфера свободного экономического оборота сужалась, все усиливающееся налоговое бремя подавляло рынок, население нищало и бежало из городов, а торговые связи разрывались из-за постоянных военных угроз, перманентной политической нестабильности и неумелых и хаотичных ограничений экономической свободы. Происходило постепенное усиление крупных землевладельцев, на работу на земли которых уходили бывшие владельцы мелких земельных наделов; все меньше товаров производилось для оборота на свободном рынке за деньги, и все более усиливался натуральный способ самообеспечения крупных протофеодальных анклавов. Шла ползучая феодализация экономического базиса, неоднократно описанная в работах по экономической истории [86].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: