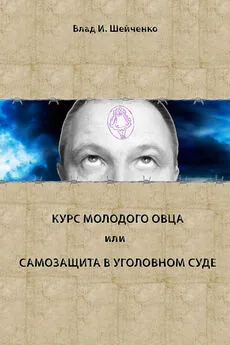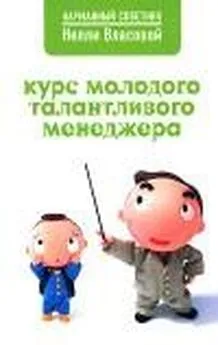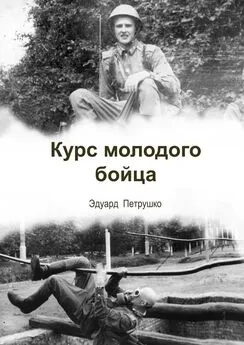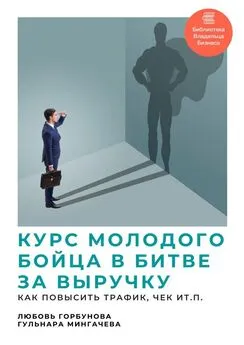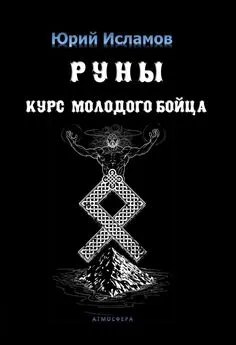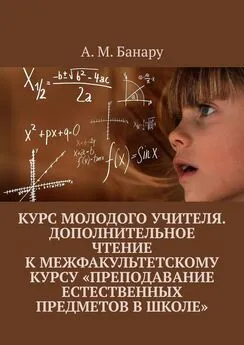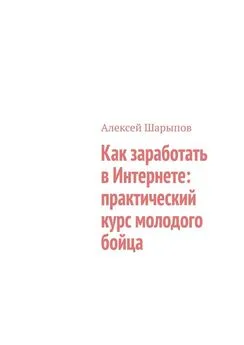Владислав Шейченко - Курс молодого овца, или Самозащита в уголовном суде
- Название:Курс молодого овца, или Самозащита в уголовном суде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2015
- Город:Тверь
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Шейченко - Курс молодого овца, или Самозащита в уголовном суде краткое содержание
Общие характеристики овцы: процессуальная глупость, доверчивость, слабоволие, раболепие, беззащитность, правовой пессимизм, безличие. На правовых пастбищах и фермах уголовного судопроизводства число овец стадного разряда – 95% населения, тех кто обрёл эти свойства не столько в силу врождённых изъянов, как по политической воле пастухов от властей. Оказаться овцой не стыдно, вдруг обнаружив себя таковым. Стыдно ею оставаться, срамно смириться с этим. «Тварь ли я дрожащая или право имею?» – вопрошал себя овца Раскольников. Уймись, Расколыч, безусловно, ты – тварь, но имеющая Право (в то время, как и Право имеет тебя).
Курс молодого овца, или Самозащита в уголовном суде - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В отличие от колхозанного понимания, когда "вина" запросто понимается как "причастность", действительное процессуальное содержание понятие Виновность облачено совершенно в иные свойства.
Виновность напрямую связана с психическим (сознавательным) отношением обвиняемого к собственным действиям. О виновности допустимо утверждать, когда имеются достаточные доказательства, что обвиняемый полностью и адекватно оценивал происходящее с его участием (в его присутствии), его действия контролировались его восприятием и желаниями, он руководствовался собственными волей, соображениями, страстями, целями, понимал грядущий итог. Либо по всей логике событий и здравому рассудку не мог не понимать возможных последствий. Виновность взаимосвязана и зависит от наличия умысла или преступной неосторожности, самонадеянности. Всё разноформие вины приведено в нормах Главы 5 УК РФ. Здесь оговаривается, что все составы преступлений считаются умышленными действиями, за исключением тех, где специально отмечена "неосторожность".
Различение умысла на прямой или косвенный, при том, что преступник осознавал опасность и последствия, зависит от наличия желания по наступлению таких последствий либо, если прямого пожелания не имелось, но определённые последствия осознанно допускались (предполагались) исходом или преступнику было безразлично – наступят эти последствия, не наступят ли они. Так же и неосторожность разграничивается на два автономных подвида: по легкомыслию, если последствия предвидятся, но необоснованно и самонадеянно считаются едва ли возможными; и по небрежности, когда последствия являются в общем-то непредсказуемыми, но при условии должной предусмотрительности такие плачевные результаты всё же можно было предвидеть и пытаться их хотя бы предотвратить.
Нетрудно заметить, что при одинаковых последствиях и при наличии виновности, формы этой виновности влияют на определение состава деяния, которые существенно могут отличаться по тяжести и наказанию. Неосторожные преступления всегда и справедливо считаются менее тяжкими, и по виновности в совершении таковых Закон более снисходителен. Да только не просто устанавливать наличие вины, тем более её форму, не говоря уже о подформах. Так как эти категории относятся к психической и духовной ипостаси, -
Категорил Стас Настасью
По курчавым ипостасям.
Припев: Ипостаси, ипостаси, ипостасечки мои.
– то есть внутренней, сакральной жизни человека, когда даже его самоличные указания на характер виновности не задорого продашь. Для пущей достоверности требуется проникновение во внутренние миры. Невозможно, недоступно. Реально это могли бы осуществить, наверное, некие духовные существа, типа бого-ангелов и прочих компетентных небожителей. Но эту публику в свидетели и эксперты не дозовёшься.
Решение вопроса о виновности относится к ведению судей, за ними последнее слово. Судьи – те тоже, невесть какие психо-духовники, что по наитию крайне поверхностно разбирают такие проблемы. Пытаются виновность оценивать по доказательствам – показаниям самого обвиняемого, свидетелей происшествия и поведению предположительного виновника, по различного рода характеризующему материалу. Но в большинстве случаев обращаются к специалистам – экспертам психологам и психиатрам, за основу берут их Заключения, а фактически прячутся за выводы этих брейн-диггеров.
Как открываем мы такие Заключения и в каждом первом из них обнаруживаем выводы, типа: на время совершения преступления Гриша мог осознавать характер своих действий и руководствоваться этим… и подобная пурга-метель. Это не доказательство вины, а хрен собачий, ужо; вые выкрутасы. Вникни овен. Эксперт не вправе определять преступность деяния. Слово "мог" выдавливает выводы в разряд предположений (а мог и не осознавать, мог и не руководствоваться). Это гипотезы о возможностях но не констатация фактов… Кроме того, что Закон запрещает обвинительное использование предположений, само отсутствие категоричности, пространность рассуждений не дают повод вообще утверждать что-либо. Такие выводы во многом провоцируются самими вопросами к эксперту (мог ли Гриша?…) и подлежат безусловному исключению. Что тогда остаётся? Да практически вакуум (хотя и из вакуума бомбы лепят). Решения о виновности в приговорах, тем более в обвинительных решениях следствия обосновываются словесной кашей несваримой. Суды, например, могут преподнесть формулировочку: несмотря на непризнание, виновность Гриши подтверждается следующими доказательствами… И далее приводится абсолютно произвольный перечень доказательств, содержащих всяко-разно сведения, в которых ни слова, ни намёка в поддержку умысла или неосторожности, где не обнаружится сведений о психической составляющей.
Через виновность устанавливает суд и вменяемость обвиняемого: возможно ли тому вменить в вину содеянное. Здесь состояние "вменяемость" означает положение человека, когда он может быть привлечён к ответственности при его установленной виновности, иными словами, когда спрос с чела есть, и он способен ответить перед миром за свои проделки. "Невменяемость" не во всяком случае понимается и отождествляется слабоумием (бытовое понимание), но и любым иным состоянием или наличием внешних факторов, которые препятствуют вменению, например, при малолетнем возрасте виновного или при ложной компетенции "должностного" лица, освобождающей от ответственности за должностное преступление. Но мусора редко вникают в эти нюансы и Вменяемость рассматривают только с психической точки зрения. Только поэтому следаки и судьи рассмотрение данного вопроса слепо передают на разрешение психиатрам. И следом получают от халатов Заключения: "…При таких обстоятельства Г. на время совершения деяния следует считать вменяемым." Подобные выводы без стеснений далее приводят в обвинительных актах, включая Приговоры. Вода святая в ступе. Выражение "при таких обстоятельствах…" оставляет пути для отступлений на случай, если выяснятся вдруг другие обстоятельства (дела), или если те же обстоятельства приобретут иные оттенки. "Следует считать" – это всего лишь предложение считать, полагать. В этом высказывании отсутствует категоричность. Ну, ни лиса ли рыжая, эксперт наш? Почему он прямо не заявит: Гриша является и являлся вменяемым(?), но применяет такие хлипкие рекомендации, когда и "считать" – это не "признать". Нет, эксперт не то чтобы боится ошибиться, он попросту не в состоянии дать объективное и бесспорное заключение, он и не горазд на категоричные отрицательные выводы, а, в силу скотьей зависимости и ссанности, не желает быть прямолинейным. А вот суды не столь застенчивы и свободно опираются на подобные сведения, как на доказательства вины. Свободно… до тех пор, пока ты не оскандалишь это безобразие.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: