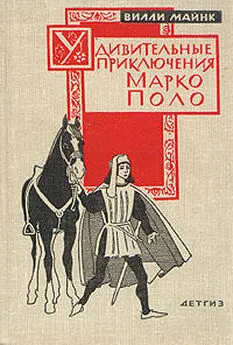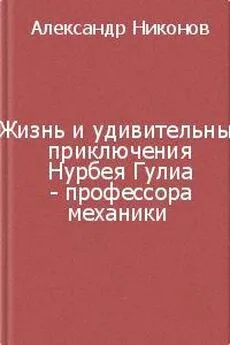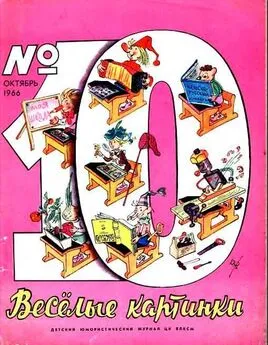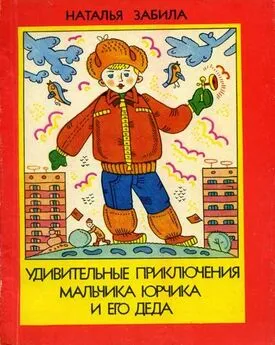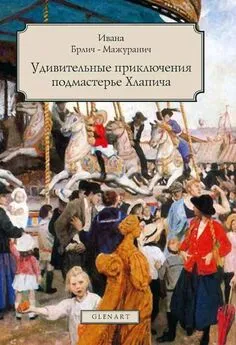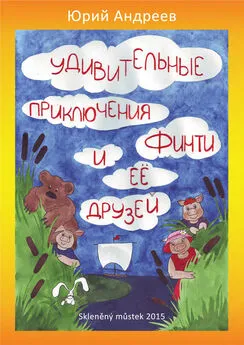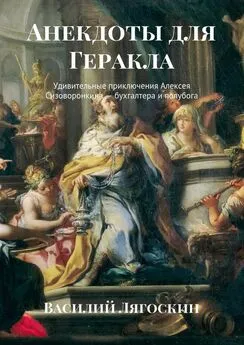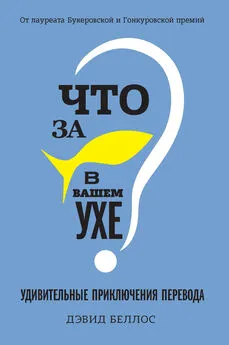Дэвид Беллос - Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода]
- Название:Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-16787-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэвид Беллос - Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода] краткое содержание
Дэвид Беллос
Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В XIX веке представление о стиле как об «эстетике предложения» постепенно полностью смешалось с другой традицией, пришедшей во Францию и Великобританию из немецких университетов. Специалисты по романской филологии основное внимание уделяли писателям-классикам, оправдывая это тем, что их особый, инновационный авторский язык, отличный от норм устной речи, служит важным фактором лингвистических перемен. Поэты, утверждали они, не просто пользуются языком — они его творят; а язык — не гладкое и округлое целое, а шишковатая старая картофелина, чьи бугорки и глазки́ рассказывают историю ее возникновения. Увлекательные и пылкие «исследования стиля», или Stilistik [154] Стилистика ( нем. ).
, длились целый век и достигли своего пика в цикле эссе Лео Шпитцера (1887–1960), однако сводились к движению по кругу: язык «великого произведения» становится подробной картой невыразимой индивидуальности великого писателя, но индивидуальность или суть, допустим, Расина полностью выводится из его языка посредством анализа его стиля. В этом смысле «стиль» неподражаем по определению — в том-то и суть. А если его на том же языке невозможно имитировать, то переводить уж подавно не стоит и пытаться.
Однако это неверно. Например, большинство особенностей языка Расина, которые Шпитцер идентифицировал как важные аспекты личности писателя, могут быть обнаружены и в языке его современников, работавших в тех же литературных жанрах. Но удивительно упорная вера филологов в то, что каждый великий писатель обладает уникальной и неповторимой манерой письма, привела к тому, что сама история идеи «стиля» была изобретена заново. Они вернулись к знаменитому «Рассуждению» Бюффона, взяли его тезис le style c’est l’homme même (стиль — это сам человек), удалили последнее слово и переиначили остаток — le style, c’est l’homme — чтобы доказать, что стиль отражает природные свойства человека. Как заметил оксфордский ученый Р. Э. Сейс в своей работе 1953 года «Стиль во французской прозе», «особенности стиля… показывают внутренние намерения и характеристики писателя и должны диктоваться какими-то внутренними причинами» {158} 158 Sayce R. A. Style in French Prose: A Method of Analysis, Oxford: Clarendon Press,1953. P. 5.
.
Так что история «стиля» довольно забавна. Фраза, произнесенная в 1753 году в защиту художественного красноречия, выдается теперь за афористичное выражение той идеи, что нет двух людей, которые бы говорили и писали совершенно одинаково, потому что никакие двое не являются одним.
Нет сомнений, что всякий говорящий на любом языке обладает собственным идиолектом — уникальным, присущим ему одному набором речевых правильностей и неправильностей. Почему это так, описано в последней главе этой книги; но при этом очевидно, что нет никаких интеллектуальных, психологических или практических препятствий к тому, чтобы говорить так, как говорит другой человек (пародисты все время это делают). Однако индивидуальные лингвистические особенности могут приносить большую практическую пользу: например, они помогают выявить мошенников. Одним из первых применений компьютеров в гуманитарных науках стали статистические программы для определения авторов подозрительных документов. В основе этих программ лежали разнообразные теории о том, что такое «стиль»: словарный запас и выбор слов; или типичное употребление глаголов либо других частей речи, которое невозможно фальсифицировать; или «редкие пары» (два слова, часто появляющиеся вместе) — у каждого автора свои; или положение общеупотребительных слов в предложении. Последняя догадка получила название позиционной стилеметрии и была развита в 1970-е годы Э. К. Мортоном и Сиднеем Майклсоном из Эдинбургского университета. Результаты их компьютерной программы неоднократно признавались доказательством в суде и послужили основой для выработки научных гипотез о происхождении разных частей Ветхого Завета.
И в этом конкретном смысле стиль непереводим. Было бы совершенно бессмысленно пытаться имитировать на английском, к примеру, неправильности размещения отрицательной частицы pas в некоем французском оригинале.
Отсюда вытекают два интересных вывода. Если «стиль» неразрывно связан с личностью и автор даже не способен его контролировать (что позволяет сыщикам выявлять изготовителей фальшивок), то и у переводчика есть такого рода «стиль» в родном языке, поэтому все его переводы по стилю должны больше походить друг на друга, чем на произведения переводимых авторов. Я и сам часто задаюсь вопросом: что, если мои английские переводы Жоржа Перека, Исмаиля Кадаре, Фред Варгас, Ромэна Гари и Элен Берр — писателей, которые абсолютно по-разному пользуются французским языком, — со стилистической точки зрения просто примеры работы Беллоса? Согласно некоторым исследованиям, именно так дело и обстоит: вычислительная стилистика не оставляет в этом сомнений. И, честно говоря, я бы этому только порадовался: в конце концов, все эти переводы и вправду моя работа. Однако убедиться в верности такого подхода позволит только серьезная компьютерная обработка.
Тем не менее попросту отмахнуться от стиля тоже нельзя. Конечно, говоря о литературе и переводах (а не об одежде и сэндвичах с огурцом), мы не подразумеваем той «элегантности», о которой говорил Бюффон. Не думаем мы и о статистических закономерностях употребления неопределенного артикля, хотя именно благодаря им суд на радость нам выносит решение о несовместимости стиля нашего дядюшки с текстом поддельного завещания.
То, что мы на самом деле имеем в виду, выразить несложно: стиль позволяет определить, что роман Диккенса написан Диккенсом, а текст Вудхауса — даже если он и написан кем-то другим — по духу соответствует тексту Вудхауса. Если стиль и не сам человек, то уж, во всяком случае, сама суть! Именно он придает уникальность.
Стиль Диккенса ни с чем не спутаешь. Это очевидно. Вопрос вот в чем: на каком уровне текста, принадлежащего перу Диккенса, определяется его «диккенсовость»? На уровне слов, предложений, абзацев, отступлений, анекдотов, характеров персонажей или сюжета? Потому что как переводчик я могу сохранить сюжет, персонажей, анекдоты и отступления; могу даже сохранить абзацы, а по большей части и довольно точно передать предложения. Но слова я вам передать не могу. Для этого вам придется учить английский.
Для Адама Тёрлвелла стиль романиста — это нечто среднее между «особенным взглядом писателя на мир» и «его собственным способом написания романов». Характерное строение предложений и звуковые закономерности несомненно составляют часть последнего, а возможно, и первого — но лишь часть. Стиль в смысле Тёрлвелла, наиболее практичном и содержательном смысле, — это нечто гораздо большее. В противном случае он исчезал бы при переводе. Круговорот романов в основных языках межнационального общения и их явная перекличка — яркое свидетельство того, что стиль при переводе сохраняется. И добиваются этого переводчики очень просто: своими обыденными переводческими навыками.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Дэвид Беллос - Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода]](/books/1068186/devid-bellos-chto-za-rybka-v-vashem-uhe-udiviteln.webp)