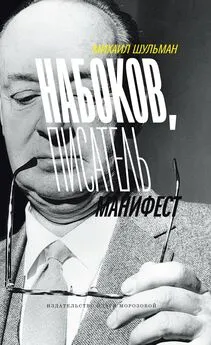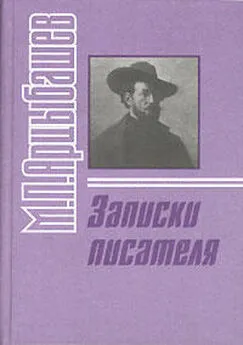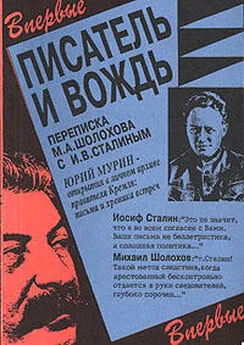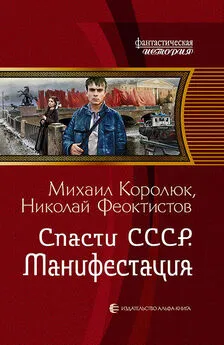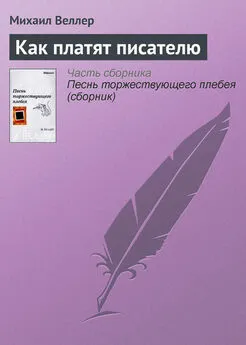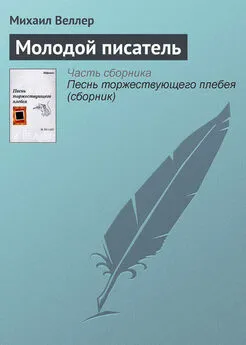Михаил Шульман - Набоков, писатель, манифест
- Название:Набоков, писатель, манифест
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ИОМ
- Год:2019
- Город:М.
- ISBN:978-5-98595-089-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Шульман - Набоков, писатель, манифест краткое содержание
Набоков, писатель, манифест - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Набоков однажды походя обмолвился о чистоте, сильно отдающей “трусостью чувств”. Иногда кажется, что очень многие обвинения критики основаны именно на таком подсознательном страхе признать реальность и других просторов, иных картин, – потому что такое признание сделало бы явным ограниченность повседневного, такого уютного и с таким трудом обихоженного кругозора. Подсознательно каждый и все чувствовали чуждость себе Набокова, его непозволительную особость, его одинокость в своем индивидуальном крестовом походе против – кто знает чего? Но каково было бы признать реальность его пути, существование черных дубрав, где водятся еще неведомые звери? Это значило бы уяснить, что эта, здешняя, писательская жизнь, текущая на верандах и пансионах, есть лишь чаепитие под абажуром, – и что стены дома так тонки и непрочны, что ночь снаружи так черна, влажна и ветрена, что в нее придется когда-нибудь выходить.
24
Наука изгнания
Набоковский герой, знающий, что наш мир лишь предшествие иному, – из которого человек изгнан и который когда-нибудь примет человека обратно, – глядит на мир с позиции вечной истины, существующей в отдалении. Он чувствует себя вечным странником, чужаком, изгнанником, одиночкой, существует как бы на перекладных: как иначе жить, зная временность всякого пристанища, включая “телесное марево” и, может быть, саму свою личность? “Драгоценное, дорожное” держит в душе Мартын Эдельвейс, о “науке изгнания” думает Лужин – и заявленный образ поведения Набоков, с юности до смерти живший по пансионам и гостиницам, принимавший лишь “дорожное новоселье”, когда за черными окнами уже поплыли огни станции, видевший символ в том, что “среди всех вещей уцелели лишь дорожные”, ставил и над собой.
Бесприютность, терпкость, гулкость человеческого существования – вот что слышится в “Машеньке”, в рассказах 20-х годов, во всех ранних, русскоязычных вещах Набокова. “В понедельник утром он долго просидел нагишом, сцепив между колен протянутые, холодноватые руки, ошеломленный мыслью, что и сегодня придется надеть рубашку, носки, штаны, – всю эту потом и пылью пропитанную дрянь, – и думал о цирковом пуделе, который выглядит в человеческих одеждах до ужаса, до тошноты жалким.” Или тот пейзаж, что видит за окном собрания Чердынцев? Двуцветие рекламы, электрический поезд, черный и маслянистый асфальт и человеческое одиночество в нем, одиночество существа, этому миру не принадлежащего, не от него рожденного, но тот родной мир потерявшего, от этого теперь на жизнь зависимого, – и потерянный мир был не Россией (или не просто Россией), и не раем детства (или не только им), а той заоблачной глубиной, где обитала человеческая душа до прихода на землю и которую не смогла забыть в пыльном берлинском пансионе: “и песен небес заменить не могли…” Это одиночество и чуждость человека изначальны, не объяснимы никаким изгнанием из страны, – скорее изгнание раскрыло клапаны души изгнанника, чтоб увидеть иное, взглянуть за предел личного опыта, за предел видимого мироздания. [24]
И какой щемящей нотой звучат воспоминания сестры Набокова Елены, в замужестве Сикорской, которая вернулась однажды в ту реальную Россию, где мы с вами проживаем: “На станции, где нас раньше забирал кучер, стоял автобус с табличкой “Рождествено”… Конечно, странно было все это видеть. Особенно странное ощущение охватило меня в Петербурге – казалось, что все вокруг – декорации, а люди, снующие мимо, не имеют ни ко мне, ни к городу никакого отношения. Будто улицы полны беженцами – только голуби и собаки остались прежними.” [25]
“Реальная” Россия имела и имеет небезусловную связь (и уж тем более не идентична) с той родиной, о которой тоскует Набоков. И, может быть, Адамович, сказавший, что Мартын с равным успехом мог уехать в Полинезию, а не в Россию, был более проницателен чем гневен – хоть и сам, как кажется, не понял того.
25
Об одиночестве
Набоков всегда был одинок; эту одинокость, одиночество он возводил в королевский ранг, присягал ей. “…меня волновало другое: со страстной завистью я смотрел на лилипутового аэронавта, ибо в гибельной черной бездне, среди снежинок и звезд, счастливец плыл совершенно отдельно, совершенно один”.
Состоянию одиночества Набоков придает программный смысл. Каждый герой его романов одинок, заброшен, или лучше сказать заслан в мир, в котором обречен мучиться и доискиваться “выхода” из него и его смысла, причем втайне герой благословляет это свое одиночество, дорожит им и, конечно, отказываться от него не намерен, поскольку по праву чувствует, что только этим ощущением и ценна его жизнь. Разменивать его на общественные контакты герой Набокова не желает. Духовный визир человека, предоставленного самому себе, неминуемо обращается вовнутрь и – посредством внимания к тому заложенному в себе ценному, что самому человеку не принадлежит – выводит из повседневных пределов, строя некоторую вертикальную, выходящую к звездам, линию общения. Коммуникация же людей в обществе, в необходимости и важности которой никто не сомневается, имеет в этом отношении неизбываемую слабину – она не превосходит суммы своих составных частей. “После двух начинается счет, которому нет конца”, потому что единственная “реальность” – это единица. Различие единицы от последующих цифр лишь количественное, лишь удвоение данности, – в то время как само существование, само появление личности, сознания, сознающего себя самое – почти непосильно разумению.
Необходимо осознать, что человеческая душа, необыкновенно глубоко устроенная, – хоть и редко эту глубину осваивающая, – сообщается с другими, с миром, обычно на самом плоском, ставшем пустыней, балаганом, уровне. Этот уровень не может идти в сравнение с таящимися в ней возможностями и потребностями. Христос говорил о том, что не должно душу свою загубить, чтобы спасти мир, – “мир” и есть этот верхний, коммуницирующий уровень. Все мировые чудеса суть лишь отражения и зайчики света от происходящего в человеческой душе. В алхимических текстах говорится: “алхимик должен осознать, что ни небо, ни земля не могут дать ему ничего, что он уже не нашел внутри себя”. Какими глазами смотрел Федор Годунов-Чердынцев на Васильевский союз, на ревизионную комиссию, на каплю пота у Ширина – когда, как рубиновая брошь на бархате, с нежным звуком перемещался по небу самолет, когда такие тайны и бездны были сокрыты в мире, за миром? Если ТАК представить себе проблему, если суметь вернуться к этим изначальным критериям, – то проще будет пересмотреть саму постановку вопроса о человеческом отношении к “общественному”. “Общественное” – это необходимый мир вокзалов и публичных сортиров, – но требования жить этой жизнью бомжа могут исходить только от людей, для которых цель искусства сводится к тусованию на приемах в Министерстве культуры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: