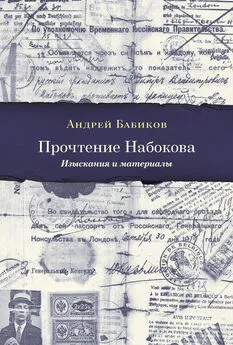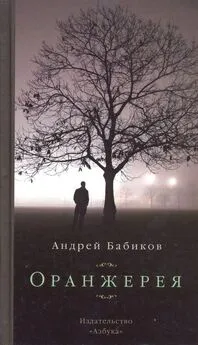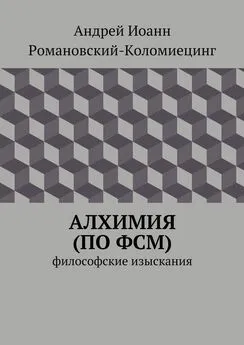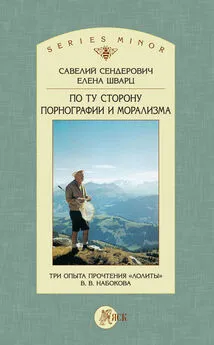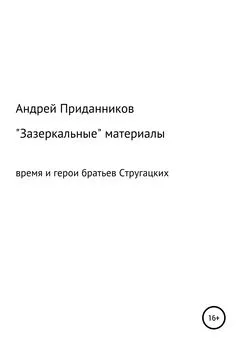Андрей Бабиков - Прочтение Набокова. Изыскания и материалы
- Название:Прочтение Набокова. Изыскания и материалы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иван Лимбах Литагент
- Год:2019
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-350-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Бабиков - Прочтение Набокова. Изыскания и материалы краткое содержание
Значительное внимание в «Прочтении Набокова» уделено таким малоизученным сторонам набоковской творческой биографии как его эмигрантское и американское окружение, участие в литературных объединениях, подготовка рукописей к печати и вопросы текстологии, поздние стилистические новшества, начальные редакции и последующие трансформации замыслов «Камеры обскура», «Дара» и «Лолиты». Исходя из целостного взгляда на феномен двуязычного писателя, не упрощая и не разделяя его искусство на «русский» и «американский» периоды, автор книги находит множество убедительных доказательств тому, что науку о Набокове ждет немало открытий и новых прочтений.
Помимо ряда архивных сочинений, напечатанных до сих пор лишь однажды в периодических изданиях, в книгу включено несколько впервые публикуемых рукописей Набокова – лекций, докладов, заметок, стихотворений и писем.
Прочтение Набокова. Изыскания и материалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вторая проблема – заимствований (и в самом широком смысле слова!), или иначе – освобождение от традиций XIX века, [—] очень важна. Тут нельзя упускать из виду «Аду», потому что (как я считаю) в «Аде» нанесен русскому реалистическому (да и не только русскому) роману coup de grâce [963]. Возвращения к нему не может быть – по крайней мере сто лет. Одиннадцать раз он пошел на него в атаку и… добил его. <���…>
Третья проблема, как я сказала, – пародии. В одном «Solus Rex» их пять, идущих подряд на одной странице. Боюсь, что о них сколько ни говори, «знаний» передать почти невозможно. Потому что десять можно раскрыть, но одиннадцатая все равно останется тайной для большинства, слишком надо знать и чувствовать литературу, чтобы тайное стало явным во всем своем объеме. Когда в Белом есть темные места, можно проштудировать два тома Штейнера и найти ответ. С Н-вым этого сделать нельзя.
<���…> Я выхожу в отставку в июне. Финансовых забот у меня не будет (отчасти благодаря книге [ «Курсив мой»]). Остаюсь в Принстоне. Много планов. <���…> Но с публичной лекцией о Н-ве (в связи с написанным выше) на английском языке собираюсь поехать в два-три места. <���…> [964]
Несмотря на пристальное внимание Берберовой к Набокову в Америке в 60 – 70-е годы, их переписка не возобновлялась. Последними парижскими письмами они обменяются на излете своей дружбы, после смерти Ходасевича. Берберова приведет найденное ею в бумагах Ходасевича неопубликованное стихотворение («Памятник», 1928) и похвалит эссе Набокова «О Ходасевиче», написанное на смерть поэта: «Как бы он оценил все, до последнего слова! Как он вообще любил Вас».
Однако этими словами тема незримого присутствия безвременно ушедшего поэта кончена не была. Она находит свое неожиданное продолжение десять лет спустя. Стремясь возобновить переписку с живущем в Америке Набоковым, Берберова передала для него через Романа Гринберга прядь волос Ходасевича, доставшуюся ей вместе с другими вещами от родных погибшей в концлагере О. Марголиной. Этот, по-видимому, искренний порыв Берберовой, помнившей о локоне Пушкина, который всю жизнь хранил Тургенев, сопровождался ее оговоркой в письме к Гринбергу от 23 октября 1949 года:
Н<���абоков>, я знаю, человек весьма впечатлительный и о покойниках говорил мне очень странно. Прежде чем вручить ему локон Влад<���ислава> Фел<���ициановича>, я посоветуюсь с Верой и Вам подробнейше напишу. Хотелось бы мне это сделать половчей и так, чтобы и Вы остались довольны [965].
10 декабря того же года Гринберг писал Набокову (машинопись):
<���…> Но до всего я должен признаться, что на душе у меня грех: я до сих пор не выполнил поручения[,] возложенного на меня Ниной Н. Берберовой, которую я видел в Париже. Она просила меня передать тебе локон покойного Вл. Ф. Ходасевича. Локон я привез и не послал его тебе сразу, ибо не ведал, как написать сопроводительное письмо, памятуя твое не совсем ровное отношение к покойникам. Но какого бы оно ни было [sic], я не хочу больше хранить чужое добро, тем более что Н<���ина> Н<���иколаевна> Б<���ерберова> отнеслась [ко мне] очень внимательно и подарила рукопись Х.<���одасевича> [966]
Тогда же Гринберг переслал локон Набокову, на что 15 декабря последовал такой ответ:
Очень было приятно получить твое уютное и занимательное письмо. Но локон… Я очень любил Ходасевича – но при чем тут его растительность? Совершенно не зная, что с этим подарком делать, я понес его в библиотеку университетскую – предложил подарить им; увы – они ответили, что только что отказались принять от какого-то итальянского общества «мизинец Петрарки»… excusez du peu [967]. Огонь – чистая и благородная стихия, и думаю, что В<���ладислав> Ф<���елицианович> не посетовал бы на меня за маленькое отодафе. Еще не понимаю, при чем тут Берберова. Будь добр, если будешь писать ей, скажи, что очень благодарю, но про мои попытки пристроить локон умолчи [968].
Исполняя просьбу Набокова, Гринберг написал Берберовой: «Наконец я послал прядь Влад<���ислава> Фел<���ициановича> Набокову. Он в письме ко мне очень просил Вас поблагодарить. Я ему сообщил Ваш адрес, и Вам он, вероятно, напишет сам» [969](чего Набоков, по-видимому, не сделал).
Мы можем только гадать, действительно ли Набоков хотел передать локон почти неизвестного в Америке Ходасевича в библиотеку Корнелльского университета, в котором он в то время преподавал, или он сразу его сжег; во всяком случае, даже если история с отвергнутым мизинцем Петрарки – литературный анекдот, он лишь свидетельствует о том, что Набоков отводил Ходасевичу на Парнасе все то же исключительно высокое место – и едва ли бы Ходасевич мог посетовать на соседство с автором «Канцоньере» и «Триумфов».
«Вот и случилось невероятное: мы добрались до Америки»
Переписка с Михаилом Карповичем (1933–1959)
Немного найдется великих писателей, тем более русских, о которых нам было бы известно столько же, сколько о Владимире Набокове. Отдельные отрезки его жизни можно восстановить по дням, а некоторые месяцы едва ли не по часам. Из писем Набокова к матери, к жене, к друзьям и коллегам, из воспоминаний, дневников и эпистолярия русских эмигрантов в Праге, Берлине, Лондоне, Париже, Нью-Йорке, из документальных свидетельств английских, французских, американских знакомых Набокова воссоздается обширная картина его литературных и научных занятий, контактов в самых разных кругах, настроений и взглядов, бытовых обстоятельств. Нам известны очень личные мелкие подробности его жизни, обретающие задним числом пророческий смысл. К примеру, мы знаем, что 11 января 1924 года Набоков в Праге видел во сне, будто он играл на рояле, а Вера Слоним, с которой он только недавно познакомился, переворачивала ему ноты; что 17 января, не получив из Берлина обещанные деньги за переводы, он скажет ей, что если его литературный заработок лопнет, то уедет с ней в Америку – как и случится шестнадцать лет спустя. И все же, несмотря на такое обилие сведений, о некоторых периодах жизни Набокова до сих пор известно немного. Тому виной не только исторические катаклизмы, повлекшие за собой обрывы связей, утраты архивов и вынужденный отказ от привычного уклада, но и особая напряженность работы, стремительная перемена его планов, замыслов, шквал новых впечатлений, знакомств и забот.
К такому особенно насыщенному событиями периоду относятся первые годы Набокова в Америке, и его переписка с Карповичем – один из самых главных источников сведений об этом времени.
Михаил Михайлович Карпович (1888, Тифлис, – 1959, Кембридж, Массачусетс), историк, профессор Гарвардского университета, основатель и соредактор «The Russian Review», с 1943 года соредактор, а с 1946 года и до своей смерти редактор «Нового журнала», – одна из самых значительных фигур общественной и культурной жизни русской эмиграции, публицист и ученый, оказавший большое влияние на развитие американской русистики. Круг его интересов и занятий был очень широк. Еще будучи тифлисским гимназистом, он принимал участие в деятельности эсеров, распространяя их революционные взгляды, за что в 1905 году был арестован и на месяц отправлен в Мцхетскую крепость. Арест, впрочем, не помешал ему в следующем году поступить в Московский университет, после окончания которого в 1914 году он был оставлен при кафедре русской истории и получил место помощника ученого секретаря Исторического музея. В 1916 году его мобилизовали и направили секретарем в Особое совещание по обороне Военного министерства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: