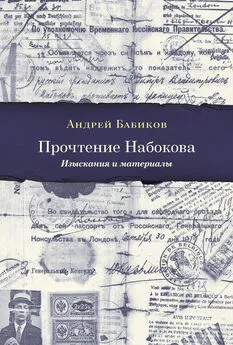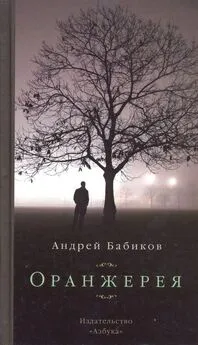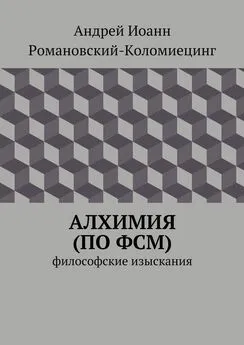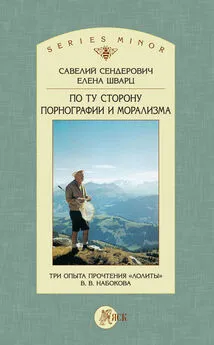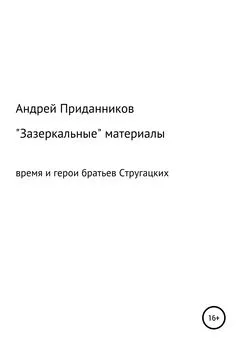Андрей Бабиков - Прочтение Набокова. Изыскания и материалы
- Название:Прочтение Набокова. Изыскания и материалы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иван Лимбах Литагент
- Год:2019
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-350-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Бабиков - Прочтение Набокова. Изыскания и материалы краткое содержание
Значительное внимание в «Прочтении Набокова» уделено таким малоизученным сторонам набоковской творческой биографии как его эмигрантское и американское окружение, участие в литературных объединениях, подготовка рукописей к печати и вопросы текстологии, поздние стилистические новшества, начальные редакции и последующие трансформации замыслов «Камеры обскура», «Дара» и «Лолиты». Исходя из целостного взгляда на феномен двуязычного писателя, не упрощая и не разделяя его искусство на «русский» и «американский» периоды, автор книги находит множество убедительных доказательств тому, что науку о Набокове ждет немало открытий и новых прочтений.
Помимо ряда архивных сочинений, напечатанных до сих пор лишь однажды в периодических изданиях, в книгу включено несколько впервые публикуемых рукописей Набокова – лекций, докладов, заметок, стихотворений и писем.
Прочтение Набокова. Изыскания и материалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Содержание последних глав, изложенное конспективно и от первого лица, предваряет рабочая заметка: «Встречи с (воображаемым) Фальтером. Почти дознался. Затем:». (Адам Ильич Фальтер – персонаж неоконченного романа Набокова «Solus Rex», у которого художник Синеусов старается выведать тайну жизни, случайно тому открывшуюся.) Зина и Федор вновь вместе в Париже. Она расстается с мужем на улице, чтобы зайти к Щеголевым, очевидно приехавшим из Копенгагена. Федор покупает папиросы и возвращается домой, где его у телефона уже ждет записка: звонили из полиции, просят тотчас прийти. Он приходит в участок и видит мертвую, завернутую в простыню Зину, которая только что по дороге к Щеголевым попала под автомобиль. Подобранная на панели монетка не принесла им счастья, последнее утверждение эпиграфа «Дара» получает новое зловещее значение. Благоволящая героям «Дара» судьба оказывается во второй части романа безжалостным Фатумом, прообразом той коварной силы, что будет затем олицетворена в «Лолите», где так же под колесами автомобиля погибнет обманутая жена Гумберта.
После смерти жены потрясенный Федор вместе со своей сестрой Таней («старше его на два года», как известно из первой главы «Дара») собирает вещи, после чего, избегая тестя и тещи, ночует у нее дома «в одной постели» и рано утром, не дожидаясь похорон, уезжает на юг.
Средняя часть последних глав посвящена «трагедии русского писателя» – жизни овдовевшего Федора на Ривьере, – по-видимому, с конца осени 1938 года [438]. Федор медленно приходит в себя. Весной он переживает короткий роман с давней, надо полагать, знакомой («…и стыдно, и все равно вся жизнь к чорту»), затем проводит лето в полном одиночестве в Мулине, где ловит бабочек. Осенью Годунов-Чердынцев возвращается в уже военный Париж.
Финал второй части романа посвящен беседе Федора с Кончеевым (в манускрипте это имя написано, однако, как Кащеев или Кощеев). После двух воображаемых разговоров Федора с Кончеевым о литературе в «Даре», они наконец встречаются и беседуют на самом деле. В пятой главе романа Федор задается вопросом: «Почему разговор с ним никак не может распуститься явью, дорваться до осуществления? Или это и есть осуществление, и лучшего не нужно… – так как подлинная беседа была бы только разочарованием <���…>» (385). Их «подлинная» встреча, встреча двух русских писателей, беседующих на обломках прежнего мира о Пушкине, развеивает эти сомнения. Как и в «Даре», о котором Набоков в предисловии к его английскому переводу (1962) заметил, что героиня в нем не Зина, а русская литература, во второй части романа в «русском слове, соловом слове» герой ищет спасения от «вторичной» реальности своих парижских обстоятельств, литературными реминисценциями и поэзией пронизаны сцены свиданий с Ивонн, в которых Набоков цитирует или перефразирует Пушкина, Боратынского, Фета, Ходасевича, Ахматову, а в беседе с Кончеевым/Кащеевым звучат имена Брюсова, Куприна и Ходасевича, к тому времени покойного (он скончался 14 июня 1939 года). Под вой сирен воздушной тревоги Федор читает Кончееву свое окончание пушкинской «Русалки», текст которого записан в рукописи между эпизодом с Кострицким и сценами с Ивонн. Третья беседа Годунова-Чердынцева с Кончеевым, таким образом, возвращает читателя к первой главе «Дара», в которой Кончеев упоминает пушкинскую «Русалку»: «Но мы перешли в первый ряд. Разве там вы не найдете слабостей? „Русалка“…» Федор строго одергивает воображаемого собеседника: «Не трогайте Пушкина; это золотой фонд нашей литературы» (83). Теперь же, в военном Париже, закончив «Русалку», Федор тем самым продолжает пушкинскую линию «Дара», утверждая (вопреки Адамовичу и кругу поэтов «парижской ноты», отводивших Пушкину значительно менее высокое место, чем Ходасевич и его круг), что ввиду грозных событий и «конца всему» этот золотой фонд следует особенно беречь и ценить. Напоследок он задает Кончееву загадочный вопрос, относящийся к сочиненному им пушкинскому финалу: «Как вы думаете, донесем, а?» Кончеев отвечает с усмешкой: «Что ж, все под немцем ходим», имея в виду и прямое значение переиначенной им поговорки: в небе – немецкие боевые аэропланы. Текст второй части «Дара» оканчивается замечанием рассказчика: «Он не совсем до конца понял то, что я хотел сказать».
Беседа Федора с Кончеевым придает замыслу второй части «Дара» тематическую и композиционную завершенность. Начатая сценой с пошляком Кострицким, рукопись завершается беседой Федора о Пушкине с его антиподом, поэтом Кончеевым, и завершается в то самое время, когда восхвалявшийся Кострицким германский режим добрался до Парижа, чтобы уничтожить тот мир, в котором чудесным образом сложились условия для расцвета русской эмигрантской литературы и появления набоковского «Дара».
История рукописи второй части «Дара», известной как «Розовая тетрадь», не менее загадочна, чем ее окончание, и восстанавливается лишь отчасти на основании письменных свидетельств (корреспонденций, дневниковых записей, публикаций), охватывающих несколько лиц и отрезок в четверть века – от марта 1939 года до ноября 1964 года. Исследование чрезвычайно важной для последующих сочинений Набокова группы текстов («Solus Rex», «Ultima Thule», вторая часть «Дара», заключительная сцена «Русалки», «Второе приложение к „Дару“») затруднено тем, что создавались они в переломные для Набокова годы, когда из-за его переезда в Америку и начавшейся войны часть набоковского архива была утрачена в Париже [439], оборвались многие связи, приостановилась его переписка с другими авторами и издателями, которая могла бы пролить свет на его литературные занятия, прекратился выпуск газет и журналов. Сведения об этой сложной и особенно насыщенной писательскими планами поре его жизни (1939–1941) приходится собирать по крупицам. Со всем тем, привлечение новых источников и новый анализ рукописей и напечатанных текстов позволяют внести существенные уточнения в принятую до сих пор среди исследователей датировку продолжения «Дара» и в определение того места, которое этот замысел занимал среди других проектов Набокова, относящихся к концу 30-х – началу 40-х годов.
Впервые содержание «Розовой тетради» изложил Брайан Бойд в первом томе фундаментальной биографии Набокова (1990). По упоминанию Фрежюса и начавшейся войны Бойд отнес эти наброски ко времени возвращения Набокова в Париж с юга Франции, «не раньше сентября 1939 года», и предположил, что «Набоков тут же прервал эту работу, вдохновившись замыслом „Волшебника“, а к концу ноября обнаружил, что идея изобразить „душекружение“ [неологизм Набокова из «Ultima Thule»] мужа, который не может примириться с бессмысленностью смерти своей жены, уже зажила своей собственной жизнью, не умещающейся в рамках „Дара“. Теперь эта идея, – продолжает Бойд, – начинает переходить в замысел совершенно нового романа – „Solus Rex“» [440]. Ко второй половине 1939 года относит рукопись продолжения романа и Джейн Грейсон в известной статье, посвященной этому замыслу Набокова [441]. Небольшое уточнение внес А. Долинин в содержательной работе «Загадка недописанного романа», в которой он предпринял попытку расставить все точки над i в последнем русском замысле Набокова. Он заметил, что, поскольку «разговор Годунова-Чердынцева с Кончеевым происходит во время воздушной тревоги в Париже, причем оба героя относятся к звукам «сирен как к вполне привычному, обыденному явлению <���…> этот фрагмент мог быть написан Набоковым, самое раннее, в конце осени или, что более вероятно, зимой 1939–1940 года, когда воздушные тревоги стали проводиться в Париже более или менее регулярно» [442]. Далее Долинин, развивая догадку Бойда о том, что продолжение «Дара» связано с замыслом романа «Solus Rex», заключает, что «Набоков начал работу над „Solus Rex“ не позднее июля-августа 1939 года <���…> заметки ко второй части „Дара“ (или, по крайней мере, конспект ее последней главы [443]) делались одновременно с подготовкой к печати нового романа <���…> По-видимому, „Solus Rex“ был задуман и отчасти написан как продолжение „Дара“ или <���…> вторая часть „Дара“ – это и есть „Solus Rex“, а „Solus Rex“ – это и есть вторая часть „Дара“» [444]. В другом месте Долинин связывает наброски второй части романа с повестью Набокова «Волшебник» и как установленный факт относит их ко времени ее сочинения (ноябрь 1939 года): «Сходную задачу Набоков решал и в написанных одновременно с „Волшебником“ черновых набросках ко второй части „Дара“, где творческое сознание Федора Годунова-Чердынцева одновременно фиксирует и „олитературивает“ вполне заурядный телесный опыт – два свидания с парижской проституткой, во время которых у него рождается множество поэтических ассоциаций» (курсив мой) [445].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: