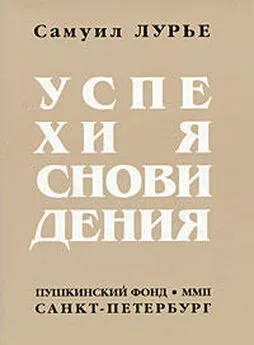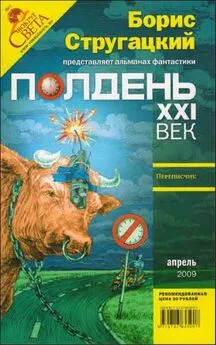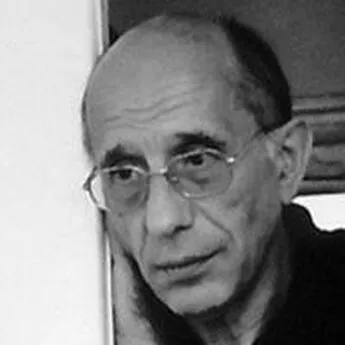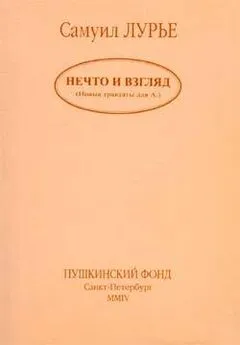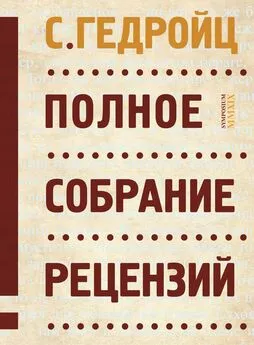Самуил Лурье - Полное собрание рецензий [litres]
- Название:Полное собрание рецензий [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ИП Князев
- Год:2019
- ISBN:978-5-89091-529-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Самуил Лурье - Полное собрание рецензий [litres] краткое содержание
Полное собрание рецензий [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А также личная страсть – неутолимая страсть к сочинениям не только безупречным, но и разного сорта, – поскольку в любом отсвечивает идеал, наличие коего – и счастливая возможность содействовать его обнаружению – только и придают существованию смысл.
Сколько замечательных писателей в Германии! – думаешь над этой книгой, – даже завидно. И со всеми-то он знаком или был знаком, и все такие занятные субъекты. И так серьезно все относятся к этой пресловутой великой немецкой культуре.
А все-таки нет-нет и мелькнет какая-то тревожная тень. В разговорах, скажем, о Вагнере.
В самом-то деле, как же с Вагнером? Который был ведь отнюдь не варвар, правда? Но встреться критик Райх-Раницкий с ним глазами – припомнил бы, полагаю, выражение лица того, на варшавской площади, молодого человека с хлыстом.
Наш автор отгоняет эту мысль такой остротой:
«В мире было и есть много благородных людей, но они не написали ни „Тристана“, ни „Мейстерзингеров“».
Это да. Например, из ушедших налево, – точно никто. Многим и благородство проявить не пришлось.
А все же, думаю, тяжело бывает почувствовать этот мрачный взгляд из глубины прекрасного облака. Что, разумеется, не мешает наслаждаться его полетом, раз уж научился разбираться в таких вещах.
Катя Манн. Мои ненаписанные воспоминания
Katja Mann. Meine ungeschriebenen Memoiren
Перевод, вступ. ст., сост., коммент., примеч., имен. указ. Л.Миримова. – СПб.: Бельведер, 2003.
Чем хороша была советская власть – образованных людей употребляла в качестве корректоров. Нынче иных уж нет, а те далече. Издательству «Бельведер» не удалось найти ни самого завалященького. А прекрасный, например, был обычай – ставить запятую перед союзом «и» в сложносочиненных предложениях!
А еще была, говорят, и такая должность – редактор. Должность, прямо скажем, собачья, – но, вместе с тем, предполагалось, что личность, ее занимающая, ни за что не пропустит в тексте оборот типа «Люси имела брата», «комната имела также дверь, ведущую в сад», – непременно зачеркнет, а сверху напишет: «у Люси был брат». И про комнату что-нибудь придумает.
А уж там, где перевод по неловкости опрокидывает вверх дном политику оригинала, – там вообще, под благотворным воздействием шкурного страха, редактор становился беспощаден. И ему действительно не поздоровилось бы, оставь он как есть вот такое, скажем, предложение: «Судя по тону, каким была написана статья, Томасу Манну ни в коем случае нельзя было возвращаться, он только заявил , что видел все в ложном свете, а теперь понимает, что речь идет об обновлении Германии». Ежу, который по-немецки ни бум-бум, и то понятно: требуется – разве только он заявил бы , – хотя, впрочем, настоящий советский редактор еще усилил бы для ясности.
Все это в прошлом. И не имеет значения. Данной книжке ляпсусы не повредят. Поскольку ее читатель должен сам быть с усами. Компетентный должен быть человек. Некомпетентному и профессиональный перевод ничего не скажет. Представьте текст – состоящий, как и положено, из предложений, – но в котором что ни подлежащее – алгебраический символ, а в сказуемых объем информации близок к нулю.
Пример. Не самый наглядный. Первый попавшийся. Где раскрылось.
«Томас Манн охотно встречался с Рене Шикеле, с интересом читал его произведения. Он ценил талант Бруно Франка, который был его другом. Верфеля он тоже очень любил как человека. Стефана Цвейга – не так».
Спрашивается: кому интересно, что Верфеля как человека Томас Манн любил не так, как Стефана Цвейга? Правильно: знатоку и ценителю немецкой словесности. Но с какой стати знатоку и ценителю читать мемуары Кати Манн по-русски? Они тридцать лет как опубликованы в Германии.
Вы скажете: бывают и такие знатоки и ценители, вроде упомянутого ежа, которые не знают языка излюбленной литературы. И это даже типично для бывших советских людей. В рассуждении чего подобные книжки снабжают справочным аппаратом. Загляните в именной указатель, с ходу врубитесь, кто есть кто.
Но, во-первых, глупо доверять указателю – он составлен автором примечаний, а там среди прочего черным по белому: «Грааль – это чаша, из которой по христианской легенде Христос на тайной вечере вкушал пасхального агнца»!!!
Во-вторых же, указатель расшифрует только подлежащие (ну и дополнения, грамматически говоря). Температура сказуемых от этого не возрастает. Проверяем методом подстановки: Верфеля, Франца (1890–1945), австр. писателя, поэта, он тоже любил как человека. Стефана Цвейга (1881–1942), австр. писателя, драматурга, поэта, переводчика – не так. Легче стало?
«В пределах досягаемости находились Верфели, Макс Рейнгардт, Герман Брох, Эрих Калер, которого мой муж также очень ценил и на которого возлагал большие надежды».
Нет, я не спорю – более того, я уверен, что эти сведения обладают определенной ценностью. Вполне допускаю – большой. Почти как если бы очевидец подтвердил, что Пушкину случалось перекинуться в картишки с Лермонтовым или что Михалков, сидя на горшке, с выражением декламирует Ахматову. Для специалистов такие свидетельства – золотой песок. А профану-то какое дело, что, допустим, бормотал за пивом один полузабытый классик про малоизвестную вещь другого – правда, еще не забытого?
«Мы знали, естественно, Ведекинда, но близких отношений у мужа с ним не было. Однажды они встретились в мюнхенском винном погребке „Торгельштубе“, в котором часто бывали писатели и Ведекинд имел там свой столик завсегдатая (переводчик в своем репертуаре. – С. Г .). Он, по-видимому, подготовился к встрече, так как сказал:
– Я только что прочитал „Фьоренцу“. Черт возьми! Черт возьми!»
На немецком – для человека, не равнодушного к мнениям Ведекинда («1864–1918, нем. драматург») и, конечно, читавшего эту самую «Фьоренцу», – эпизод, надо думать, не лишен смысла.
Бедному невежде вроде меня – в чужом пиру похмелье.
Но все-таки вдову Томаса Манна – уважаю. Замечательная старая дама была. Питала отвращение к любопытству толпы – и не выдала ни волоска. Разглядывала реальность исключительно сквозь литературу отца своих детей – прочих современников полагала его персонажами.
А вот про себя самое – похоже, думала, что Бог обошелся с нею недостаточно внимательно. Что создал ее для чего-то большего, чем родить гению шестерых, – верней, для чего-то другого, – а потом позабыл, для чего.
«Итак, появилась девочка, Эрика.
Я была очень рассержена. Я всегда сердилась, когда рожала девочку, почему – не знаю. У нас всего было три мальчика и три девочки, таким образом существовало равновесие. Будь у меня четыре девочки и два мальчика, я была бы очень недовольна. А так – ничего».
Это дети – сами уже пожилые – уговорили ее хоть что-нибудь вспомнить вслух.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Самуил Лурье - Полное собрание рецензий [litres]](/books/1076062/samuil-lure-polnoe-sobranie-recenzij-litres.webp)