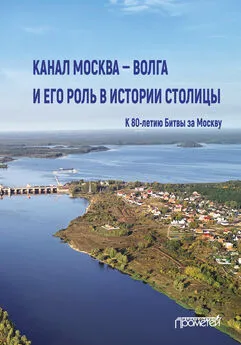Коллектив авторов - Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика
- Название:Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИПО «У Никитских ворот» Литагент
- Год:2014
- ISBN:978-5-91366-943-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика краткое содержание
Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
2. Новиков А.И. Семантика текста и её формализация. – М., 1983.
3. Поляков Ю. Плотские повести. – М., 2005.
4. Поляков Ю. Плотские повести – 2. – М., 2005.
5. Поляков Ю. Козлёнок в молоке. – М., 2005.
А.В. Флоря, доктор филологических наук, профессор
Тема отцовства в романе Юрия Полякова «Замыслил я побег…»
«Замыслил я побег…» – роман, написанный Ю.М. Поляковым в 1999 г. и запечатлевший общество в состоянии глубокого кризиса. В книге оно реализуется в «мысли семейной», а если точнее, в теме ослабления семьи, родственных связей.
Между прочим, автор взял для эпиграфа к «Побегу» слова А.С. Пушкина из едва начатого наброска «Часто думал я об этом ужасном семейственном романе…». В pendant к ним можно было бы добавить фразу Л.Н. Толстого: «Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная». Жизнь семьи Башмаковых автор через Пушкина сам аттестует как ужасную, но, как мы знаем, она также – самая простая и обыкновенная.
Я не знаю, корректно ли называть персонажей Ю. Полякова «лишними людьми», но к типичному поляковскому протагонисту могут быть отнесены слова из фильма Ю. Егорова «Простая история» – «хороший мужик, но не орёл». Эти «мужики» даже не всегда хорошие, скорее – не плохие, а чаще всего – посредственные, но не орлы – уж точно, за единичными исключениями.
У Н.Г. Чернышевского «лишний человек» нашей литературы именуется «русский человек на rendez-vous». Поляковские персонажи проявляют себя не столько на rendez-vous, сколько dans la vie de famille, в семье.
Квинтэссенцией общественного кризиса является кризис мужского начала. Главные герои романов Ю. Полякова – герои номинальные, язык не поворачивается назвать этим словом Чистякова, Гуманкова, Башмакова, Свирельникова, Кокотова. Верность жёнам и любимым женщинам не входит в число их добродетелей (некоторым исключением выглядит лирический герой «Козлёнка в молоке», но он – человек бессемейный). Они чрезвычайно озабочены постоянным желанием удостовериться в своей гендерной идентичности, которая у них имеет почти единственный оттенок – сексуальный. Это связано с невозможностью по-настоящему реализоваться в других областях – хотя они «вроде не бездельники и могли бы жить». Они способны развивать бурную деятельность, которая отнюдь не становится подлинным делом. Они заняты производством фикций (не хочу злоупотреблять словами вроде «симулякров», но и их тоже), будь то комсомольские мероприятия, бизнес (так называемые успешные предприниматели из «Неба падших» и «Грибного царя» особенно остро чувствуют свою человеческую несостоятельность) или, в чём автор доходит уже до полного сарказма, литературная деятельность (небездарный Кокотов кропает дамские романы, а протагонист «Козлёнка в молоке» разменивается на «эпиграммушечки», причем opus magnum каждого из них становится прямо-таки олицетворением пустоты, мнимости: сценарий фильма, который режиссёр и не думал снимать, и роман, состоящий из одного названия и чистых листов). В своей настоящей профессии (многие из них относятся к технической интеллигенции) эти люди могут делать что-то полезное и даже талантливое, но оказываются невостребованными.
Остается сексуальная сфера, но и в ней их успехи сомнительны. Сама гиперсексуальность этих персонажей только оттеняет их социальную импотенцию (впрочем, и гиперсексуальность иногда бывает искусственной – поддерживается «амораловкой» или «камасутрином»; забавно, что в «Побеге» несостоявшийся жених Даши подстраховывается йохимбе, хотя по возрасту он не должен иметь таких проблем). Они вполне успешно коллекционируют любовниц, но им недоступна любовь в высшем смысле. Они грезят о ней, но не выдерживают испытания ею (как Гуманков), предают её (Чистяков в «Апофегее», отношение Мишки Курылёва к Лене в «Демгородке» тоже не вполне честно) или низводят почти до анекдота (вроде романа Кокотова с бывшей «пионеркой» Обояровой). Иное дело – женщины, которые всегда их превосходят.
«Лузерство» этих персонажей часто проявляется через имена (а иногда через их отсутствие: герой «Козлёнка в молоке» остаётся безымянным). Инфантильный Гуманков именуется Костей, беспринципный Кокотов превращается в Аннабел Ли, то есть теряет столь важную для поляковских персонажей маскулинность, а его подлинная фамилия в этом смысле оказывается ещё «хуже», вызывая ассоциации с продажной любовью; что касается Олега Трудовича Башмакова, то его фамилия и отчество порождают непрекращающийся поток насмешек (в лучшем случае – удивлений) и обыгрываний.
Протагонисты поляковских романов – не слишком хорошие отцы, больше озабоченные pick-up’ом, нежели воспитанием детей – в основном дочерей, которых они, случается, бросают безо всяких рефлексий по этому поводу (Кокотов в «Гипсовом трубаче»).
Достойно внимания, что Ю. Поляков в своих романах воспроизводит вполне фрейдистскую модель: его мужчины не испытывают особой привязанности к отцам (разве что Свирель-ников), зато для них очень важны образы матерей (особенно это видно в «Гипсовом трубаче»), в свою очередь отцы более значимы (в тех случаях, когда они значимы вообще) для дочерей. В «Побеге» таковыми являются отцы двух главных женщин в жизни Башмакова – Кати (Пётр Никифорович) и Веты (Аварцев). Следует сказать, что эти женщины – волевые, умные, смелые – намного превосходят своего рыхлого возлюбленного.
Главные отцы в романе «Замыслил я побег…» – очень разные люди, но все они в конечном счёте в том или ином смысле терпят поражение – семейное или социальное.
Каракозин (и отчасти Пётр Никифорович) не стыкуется с действительностью, потому что она – «застойная» или/и постсоветская, а другие – потому что она – действительность. Перефразируя Н. Михалкова, можно сказать, что отец и сын Баш-маковы плыли бы по течению при любых режимах, просто при советском плыть было легче – по крайней мере, Олегу Трудовичу. Джедай, напротив, хотя обладает волей, всё умеет, отлично ладит с людьми, то есть мог бы в любой реальности чувствовать себя наилучшим образом, всегда движется поперёк. Наконец, Пётр Никифорович занимает промежуточное положение между этими полюсами. Он – обыватель и конформист, но не пассивный, а деятельный, отлично освоившийся в советской реальности, но оказавшийся слишком советским – слишком наивным и порядочным – для реальности антисоветской.
В галерее этих отцов именно Пётр Никифорович по-настоящему соответствует данной роли – настолько, что де-факто он «усыновляет» и Башмакова, отношения которого с собственным отцом не отличаются теплотой и душевностью.
Автор говорит об этих отношениях мало, но тем не менее очень красноречиво.
Труда Валентиновича вызвали в школу, объяснили, что у ребёнка начался сложный переходный возраст, и посоветовали обратить на сына особенное внимание. Он и обратил в тот же вечер, использовав при этом широкий солдатский ремень, оставшийся от одного из мужей бабушки Дуни. Уроки Башмаков снова стал готовить, но любовь от порки только окрепла. Как сказал Нашумевший Поэт:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
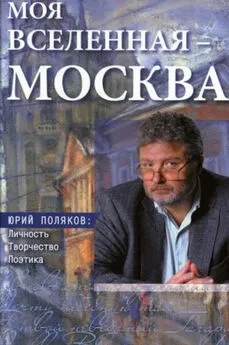



![Коллектив авторов - Испытание реализмом [Материалы научно-теоретической конференции «Творчество Юрия Полякова: традиция и новаторство» (к 60-летию писателя)]](/books/1071829/kollektiv-avtorov-ispytanie-realizmom-materialy-nauchno-teoreticheskoj-konferencii-tvorchestvo-yuriya-polyakova-tradiciya-i-novatorstvo-k-60-letiyu-pisatel.webp)
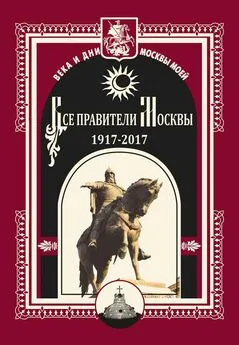

![Коллектив авторов - Вера и личность в меняющемся обществе [litres]](/books/1143889/kollektiv-avtorov-vera-i-lichnost-v-menyayuchemsya-obch.webp)