Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
- Название:О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2016
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-389-12821-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник) краткое содержание
О психологической прозе. О литературном герое (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вотрену в этом предварительном перечне уделены всего три-четыре строки. Но читателя они уже подготавливают к тайне. Этот постоялец мадам Воке «носил черный парик, красил бакенбарды, называл себя бывшим негоциантом и именовался мсье Вотреном». Об отце Горио тут же рядом сказано: бывший фабрикант вермишели; о Вотрене: называл себя бывшим негоциантом. Вместе с париком и крашеными бакенбардами – это сигнал загадочности.
За предварительным перечислением следует общая характеристика обитателей пансиона. Они взяты теперь как единое социальное целое. Это люди, помятые жизнью, но жадные и хищные. «Обитатели пансиона внушали предчувствие драм совершившихся или еще совершающихся…» Здесь уже ясно, что загадочность явится конструктивным принципом для ряда персонажей романа.
Но загадочность персонажа вовсе не исключает необходимость его экспозиции. Напротив того, в таких случаях читателю нужно знать, что он имеет дело с загадками, чтобы понять, в каком направлении их разгадывать.
Сразу же после общей характеристики обитателей пансиона Воке Бальзак возвращается к отдельным характеристикам, на этот раз более развернутым. В экспозиции нескольких персонажей загадкам отведено много места (некоторые из них так и останутся неразгаданными). Загадочность притом откровенна, подчеркнута синтаксической формой. О Мишоно: «Какая же кислота стравила женские черты у этого создания? Надо думать, что некогда она была красива и стройна. Что ж это – порок ли, горе или скупость? Не злоупотребила ли она утехами любви, не промышляла ли торговлей платьем, или была просто куртизанкой? Не искупала ли она триумфы дерзкой юности, к которой хлынули потоком наслаждения, старостью, обращавшей прохожих в бегство?» На эти вопросы романист по ходу романа так и не даст ответа. Загадки нужны ему здесь не для того, чтобы их разгадать, но для того, чтобы сразу ввести героя в круг неких социально-моральных возможностей. Колебание этих возможностей создает многогранность, многозначительность образа.
По тому же принципу строится характеристика любовника Мишоно, Пуаре. «Какая же работа так скрючила его? От какой страсти потемнело его шишковатое лицо, которое и в карикатуре показалось бы невероятным? Кем был он раньше?»
Другого рода загадки содержит вторая, развернутая, характеристика Вотрена. Это загадки-намеки, приоткрывающие истинную, пока скрытую формулу персонажа (беглый каторжник, вождь преступного мира). Вотрен, например, обладает подозрительным умением справляться с любыми, самыми неподатливыми замками, о которых он говорит: «Они знают, с кем имеют дело». Это предвосхищение будущей разгадки. Но под конец экспозиции (первого развернутого изображения Вотрена) намеки сменяются прямой, хотя еще неполной информацией: «Поставив, как преграду, между другими и собой показное добродушие, всегдашнюю любезность и веселый нрав, он временами давал почувствовать страшную силу своего характера. Нередко разражался он выпадами, достойными Ювенала… это позволяло думать, что в собственной его душе живет злая обида на общественный порядок и в недрах его жизни старательно запрятана большая тайна».
Так ложная экспозиция (добродушие, любезность, жизнерадостность Вотрена) сопровождается прямыми указаниями на ее ложность и на то направление, откуда придет истина.
Техника классического детективного романа, напротив, состоит в том, чтобы всячески препятствовать движению читателя в правильном направлении. Экспозиция главного – наряду с сыщиком – героя является там действительно ложной, в отличие от псевдоложной экспозиции в романтическом романе тайн, где романтический герой или романтический злодей сразу же должен быть узнан.
Наряду с затуманенной экспозицией Вотрена, экспозиция Растиньяка (после первого о нем упоминания) полная, прямая и подробная. В повествовательной форме автор сообщает сведения о характере Растиньяка, его семейных обстоятельствах, его честолюбивых надеждах. Возникает знакомая уже формула молодого человека, стремящегося покорить мир, – но не в героическом ее, стендалевском варианте (Жюльен Сорель), а в сниженном, светском. В своих устремлениях начинающий Растиньяк отягощен еще некоторыми моральными навыками, вынесенными из благородной, патриархальной семьи. Экспозиция сразу устанавливает два эти полюса, между которыми в романе «Отец Горио» развертывается все поведение Растиньяка. Что касается самого Горио, то его экспозиция самая обширная – она перерастает в повествовательную предысторию. В ней сказано очень много, основное, хотя многое будет еще уточняться в дальнейшем (главным образом характеры его дочерей).
Исчерпав предварительные сведения – довольно обширные – о постояльцах мадам Воке, Бальзак сам подвел черту и сам определил эту часть своего романа как экспозицию одной фразой: «Так обстояли дела в этом буржуазном пансионе в конце ноября 1819 года».
Персонажи расставлены по местам, для них уже найдены роли: демонического незнакомца, старого чудака, молодого честолюбца. Теперь они могут начать свое сюжетное движение, заполняясь новым, бальзаковским социальным смыслом.
Перенося на вершины философского и психологического романа приемы романа тайны, Достоевский применял извилистые, заторможенные экспозиции. Приведу один только пример.
В «Преступлении и наказании» мы далеко не сразу узнаем о том, что Раскольников собирается убить старуху-процентщицу. В шестой главе первой части романа Раскольников, вооруженный топором, уже отправляется осуществлять свой замысел. И только последняя фраза предыдущей – пятой – главы раскрывает этот замысел недвусмысленно: «Трудно было бы узнать накануне и наверно, с большею точностию и с наименьшим риском, без всяких опасных расспросов и разыскиваний, что завтра, в таком-то часу, такая-то старуха, на которую готовится покушение, будет дома одна-одинехонька».
Но все пять глав, предшествующих этой фразе, пронизаны напоминаниями о том, что Раскольниковым владеет какая-то неотразимая и страшная мечта, перевернувшая всю его жизнь. Притом замечательно, что все это сообщается нам уже на первой странице романа, в первых же абзацах, посвященных Раскольникову. «Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью; но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. … „На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь! – подумал он с странною улыбкой. … Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу…“».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


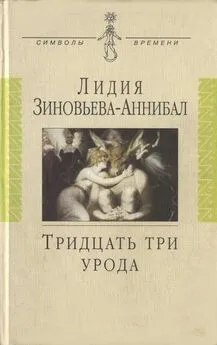

![Лидия Гинзбург - Агентство Пинкертона [Сборник]](/books/594016/lidiya-ginzburg-agentstvo-pinkertona-sbornik.webp)





