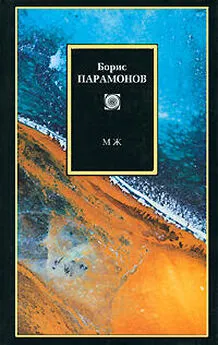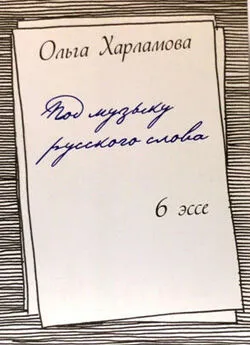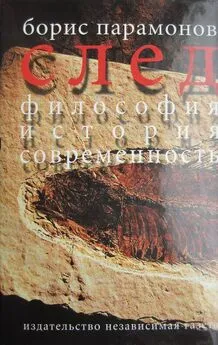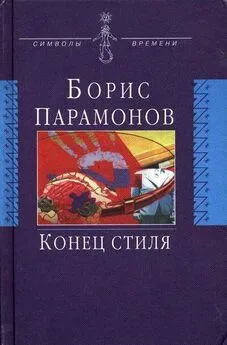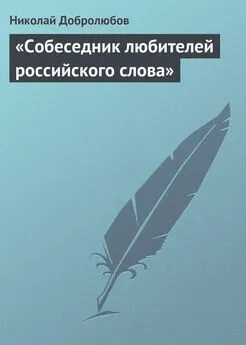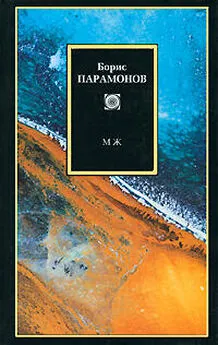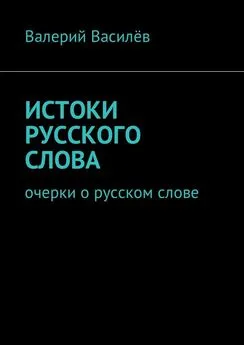Борис Парамонов - Бедлам как Вифлеем. Беседы любителей русского слова
- Название:Бедлам как Вифлеем. Беседы любителей русского слова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РАНХиГС (Дело)
- Год:2017
- ISBN:978-5-7749-1216-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Парамонов - Бедлам как Вифлеем. Беседы любителей русского слова краткое содержание
Хронологический диапазон – ХХ столетие, но с запасом: от Владимира Соловьева до Александра Солженицына. Жанровый принцип – разбор литературной фигуры, взятой целиком, в завершенности своего мифа. Собеседников интересуют концептуальные, психологические и стилистические вопросы творчества, причем их суждения меньше всего носят академический характер. К Набокову или Пастернаку соавторы идут через историю собственного прочтения этих писателей, к Ахматовой и Маяковскому – через полемику с их критиком К. Чуковским.
Предлагаемые беседы прозвучали на волнах «Радио Свобода» в 2012–2016 годах. Это не учебник, не лекции и тем более не проповеди, а просто свободный разговор через океан (Нью-Йорк – Прага) двух людей, считающих русскую словесность самой увлекательной вещью в мире.
Бедлам как Вифлеем. Беседы любителей русского слова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Б. П. : Да, для молодежи тогдашней это было очень душеполезное чтение.
И. Т. : А вы разве тогда молодым не были?
Б. П. : Как я уже говорил, я давно уже Эренбурга знал в прежних его деяниях, читал и «Хуренито», и «Визу времени», и «Курбова». Я видел, что в мемуарах Эренбург «уже не тот» – не острый умник, а благонамеренный либеральный просветитель, толкующий, что Чехов был хорошим человеком. А это, согласитесь, мало для писателя – быть хорошим человеком. Обруганный сегодня Хемингуэй сказал о Достоевском: он был сукин сын, – но дал понять, что писатель и должен быть таким.
И. Т. : У Набокова где-то: «Для писателя у него были слишком добрые глаза» – сейчас не вспомню о ком.
Б. П. : У Эренбурга глаза были не очень добрые, но «дурного глаза» не было, это уж точно. На том и сойдемся.
Серебряный голубь: Андрей Белый
И. Т. : Имя Андрея Белого знакомо любому маломальски читающему по-русски человеку, но вот именно что знакомо, потому что дальше заглавий беловских книг многие и не идут. Знавал я одного литератора, считавшегося энциклопедистом (да и вы его все знаете), так он роман «Петербург» никогда не открывал, а ходил по жизни этаким мэтром. Словом, о жизни Белого – каждый посмотрит в энциклопедии, а вот о творчестве его, об идеях – тут важно, мне кажется, послушать Бориса Михайловича Парамонова.
Б. П. : О Белом очень трудно говорить – в нем нет видимого центра, а некий хаос тем, поисков, исповеданий. В нем, кажется, невозможно обнаружить системы, точки, вокруг которой можно вести квалификацию. Не знаешь, с чего начать, – его очень много. Это при том, что сам Белый видел у себя некий сквозной сюжет: поиск правильного миропонимания, которое он, по собственному убеждению, нашел в лице антропософии – мистического учения Рудольфа Штейнера. Он даже пытался художественное свое творчество подчинить этой наконец-то найденной единственно правильной идеологии, написал антропософский роман «Котик Летаев» и книгу квазипутешествий «Записки чудака». Эту последнюю книгу смешал с грязью Осип Мандельштам, пристыдивший ею автора «Петербурга». А о «Котике Летаеве» подробно писал Виктор Шкловский, доказывавший, что эта вещь написана не по антропософским лекалам, а вопреки им.
Я буду еще говорить об этом, но сначала еще одно замечание общего порядка. Трудность, встречаемая при подходе к Белому, связана не только с многообразием его ни на что не похожего творчества, но и с обликом самого человека. Он сам ускользал от определений. Бердяев писал, что у него не было личности: была чрезвычайно богатая индивидуальность, но не было личности, некого онтологического ядра. И об этом говорил не только Бердяев. Вот еще несколько суждений современников. Федор Степун:
Быть может, вся проблема беловского бытия есть вообще проблема его бытия, как человека . Подчас, – этих часов бывало немало, – нечто внечеловеческое, дочеловеческое и сверхчеловеческое чувствовалось и слышалось в нем гораздо сильнее, чем человеческое. Был он весь каким-то не «в точку» человеком. <���…> Одно никогда не чувствовалось в Белом – корней. Он был существом, обменявшим корни на крылья.
А вот как высказался о Белом Георгий Адамович, увязавший с неопределимостью Белого и особенности его творчества:
Белый мог быть ницшеанцем, социал-демократом, мистиком или антропософом с одинаковой легкостью, с одинаковой искренностью: врывавшиеся в его сознание идеи, результат чьего-нибудь долгого и, может быть, дорого обошедшегося личного творчества, выталкивали сразу всё, чем жил Белый до того, и в пустоте обосновывались с комфортом. Белый проверял их по книгам или догадкам, но у него не было того духовного опыта, в свете которого можно было их по-настоящему рассмотреть. Оттого, в конце концов, все им написанное и сказанное, – кроме нескольких стихотворений – лишь «слова, слова, слова»… В лучшем случае, – это блестящая импровизация. Ей придает значительность только то, что сам Белый сознавал порочность своей неисцелимо поверхностной творческой натуры и, конечно, этим сознанием терзался, пытаясь, как черт у Достоевского, воплотиться в какую-нибудь «семипудовую купчиху», – под конец жизни купчиха и явилась ему в образе диалектического материализма и упрощенного, ощипанного Лениным гегельанства.
Ну, диамат и Ленина вешать на Белого не стоило – это была подцензурная уловка в предисловиях Белого к его трехтомной автобиографии, выходившей при большевиках в конце двадцатых – начале тридцатых годов, и никого эти реверансы в сторону господствующей идеологии не обманывали, главное – самих большевиков не обманывали, о чем и написал Каменев в предисловии к третьему тому этих воспоминаний «Между двумя революциями». Говорят, что Белого хватил удар, когда он прочитал это предисловие еще в гранках. И этот третий том вышел уже после его смерти. Sic transit gloria mundi: когда я читал мемуарный трехтомник Белого в библиотеке ЛГУ, то этого каменевского предисловия не нашел, оно было вырезано. Восстановилась некая поэтическая справедливость: сам Каменев канул бесследно, а Белый – остался; хоть в научных библиотеках, а остался.
И. Т. : Представительный том стихов Белого в серии «Библиотека поэзии» вышел в середине шестидесятых годов, а в 1981 году появилось научное издание романа «Петербург».
Б. П. : А как же, я его приобрел в Нью-Йорке и посылал экземпляры друзьям в Питер. Они благодарили за сказочный подарок – в СССР это издание было не достать.
И. Т. : Борис Михайлович, а вы согласны с теми словами Адамовича, что Белый был поверхностной творческой натурой?
Б. П. : С поправкой – именно на то, что в Белом трудно было найти определяющее ядро, и это принималось подчас за поверхностность. Более того: были трактовки Белого как писателя юмористического, и с этим я в некоторой степени готов согласиться. Только, пожалуй, его предполагаемый юмор отнес бы в рубрику иронии, романтической иронии, которая, по словам Томаса Манна, есть взгляд, который Бог бросает на букашку. Белый смотрел на этапы своей видимой эволюции как на смену поверхностей, одежд, подчас маскарадных. Он об этом однажды даже большую философскую статью написал – «Эмблематика смысла». Белый отталкивался от философии неокантианца Риккерта, силившегося дополнить антиметафизическую установку учителя и построить на основе кантианской гносеологии некую если не метафизику, то аксиологию, и он, Риккерт, ввел понятие ценности как обоснования познавательного акта. А Белый уже на этой новой основе построил чуть ли не систему знаний, некую лестницу, на которой каждая новая ступень обесценивала, отбрасывала предыдущую. По поводу этой статьи Бердяев сказал, что у логоса Белого нет отчества.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: