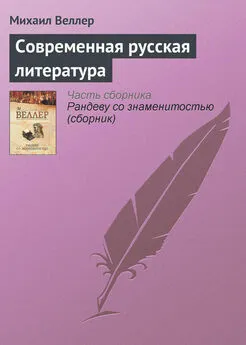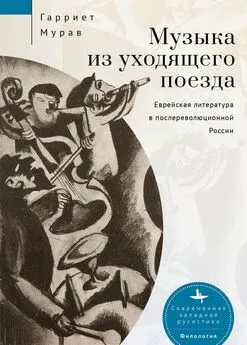Клавдия Смола - Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
- Название:Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444816035
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клавдия Смола - Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература краткое содержание
Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
114
Начатый Ханной Арендт научный дискурс о тайной, или двойной, идентичности евреев диаспоры развивает Сандер Л. Гилман в известном исследовании «Еврейская ненависть к себе. Антисемитизм и тайный язык евреев» [Gilman 1986].
115
Подробнее об этом см. в: [Smola 2011c]).
116
Что приводило порой к политическим процессам (ср., например, «дело переводчиков» в 1938 году. См. об этом также в: [Murav 2011: 290]).
117
Литературность этой характеристики Слезкина мы здесь обсуждать не будем.
118
В известном исследовании эзопова языка в русской литературе Лев Лосев [Loseff 1984], к сожалению, затрагивает тему переводов лишь вкратце.
119
Помимо евреев, от гонений и дискриминации советского времени пострадали поволжские немцы, крымские татары, ингуши и чеченцы, в первые годы после войны подвергшиеся репрессиям и депортации. Так, Ефим Эткинд пишет в связи с неисполненным сталинским намерением 1950‐х годов выселить евреев в Сибирь: «Опыт уже был: два миллиона поволжских немцев, сотни тысяч крымских татар, чеченцев и ингушей уже были депортированы в Сибирь» [Etkind 2002: 17]. О концепции многонациональной советской литературы, прежде всего о советских днях культуры – так называемых декадах , на фоне массовых депортаций кавказских народов размышляет Семен Липкин в романе «Декада», о котором еще будет сказано далее (см. с. 225).
120
Об особом случае еврейской «республики» в Биробиджане в позднесоветские годы см. с. 226–235.
121
Ср. у Нахимовски: «Исторический факт: сложившаяся система ценностей подталкивала многих писателей, особенно евреев, к работе над переводами, а при случае и к использованию их в качестве прикрытия для оригинального творчества» [Nakhimovsky 1992: 183]. Переводчик и современник эпохи Виктор Топоров превратил это в острóту: «…неевреи в своей совокупности составляли в переводе нацменьшинство или, если угодно, образовывали „малый народ“» [Топоров 1999: 177].
122
Требовалось прежде всего владение русским литературным языком: надо было доказать высокий художественный уровень литературы «малых народностей» и сделать ее органической частью русско-советской литературной продукции.
123
После Октябрьской революции евреи, как и другие народы молодого Советского Союза, получили статус советского национального меньшинства. В раннесоветский период большевики не раз пытались закрепить их на определенной территории, например в Крыму, на Украине и в Белоруссии (там создавались еврейские поселения), и побудить развивать социалистическую культуру на идише в определенных географических регионах (см.: [Weinberg 1995]). Цви Гительман упоминает, что Михаил Калинин, выступая на одной конференции, даже предостерегал еврейских новопоселенцев от смешения с другими народами, например от браков с неевреями, так как это помешало бы развитию собственно еврейской культуры [Gitelman 1988: 150]. В 1928 году советские евреи получили собственную территорию на Дальнем Востоке, в Биробиджане, где в 1934 году была провозглашена Еврейская автономная область – «номинально еврейская территориальная единица» [Ibid: 160]. Однако биробиджанский проект потерпел и хозяйственный, и культурный крах. Развитие национальной еврейской культуры было там невозможно уже потому, что многие еврейские функционеры были объявлены врагами народа, арестованы и расстреляны в ходе сталинских чисток 1930‐х годов. Удушливую атмосферу биробиджанской «еврейской республики», упадок еврейской культуры и лживость заявлений об автономности еврейства разоблачил Яков Цигельман в своей повести «Похороны Мойше Дорфера» (1981), подробнее см. «Яков Цигельман: „Похороны Мойше Дорфера“» (с. 226). Биробиджанский проект почти с самого начала противоречил стремлению властей нивелировать национальные различия и, в частности, ассимилировать еврейское население. Евреи остались рассеянными; начавшаяся с Хаскалой тенденция к еврейской урбанизации, ассимиляции и аккультурации в Советском Союзе только усилилась. В результате сложился особый тип воспитанного на русской культуре советско-еврейского интеллектуала, которого как раз и вывел в образе Аарона Финкельмайера Феликс Розинер. В этом контексте Нахимовски описывает идентичность советского еврея – об этом уже говорилось выше – как русского интеллигента и нередко нонконформиста.
124
Верена Дорн пишет в связи с поэтикой Исаака Бабеля о вуайеризме и «автомистификации вплоть до мимикрии», объясняя эту тенденцию исторически: «У русских евреев […] принято было таиться. В царской России приходилось прятаться от налогов, от рекрутской повинности, из‐за ограничений свободы поселения […], а в революционном Советском Союзе – из‐за всеведущего политического контроля» [Dohrn 1999: 190].
Другой вариант еврейской «конспирации» я рассмотрю на примере романа Давида Шраера-Петрова «Герберт и Нэлли»: караимы отказываются признавать свое сродство с евреями, подчеркивая вместо этого близость к мусульманам: «А караимов не расстреляли, потому что караимы – не евреи. Мы ближе к туркам. Что-то вроде мусульман», – говорит старуха из Тракая [Шраер-Петров 2014: 188].
125
Об этой традиции см. «Переизобретение еврейского повествования» (с. 269).
126
О понятии «пережитки» в советской (культурной) политике в Средней Азии и на Кавказе см.: [Абашин 2015: 11 f.].
127
Липкин вспоминал, как из‐за выполненных им переводов тюркоязычного эпоса Союз писателей обвинил его в 1949 году в симпатии к депортированным «народам-предателям». Он отделался предостережением только потому, что за него вступились влиятельные Александр Фадеев и Константин Симонов (см. [Липкин 1997] и [Немзер 2008: 703]).
128
О том, насколько явно тема интернационализма в Советском Союзе подчас оттеснялась на периферию канона, свидетельствует часто цитируемый эпизод биографии Липкина. В 1967 году он опубликовал в двух известных журналах стихотворение «Союз». В этом тексте превозносится неизвестный малый азиатский народ И. Стихотворение появилось в период бурной антисионистской травли, развернувшейся в советской прессе после победы Израиля в Шестидневной войне. Липкина обвинили в сионистской пропаганде и подвергли преследованиям. Он вспоминал: «Черт попутал меня прочесть сборник эпических поэм Южного Китая. Среди создателей поэм был народ, чье название меня поразило: И. Подумать только, целый народ вмещается в одну букву! Я написал стихотворение „Союз“. […] Но газета „Ленинское знамя“ заявила, что речь идет об Израиле. Меня обвинили в сионизме. Газету поддержали книги вроде „Фашизм под голубой звездой“. Возражения синологов, что на юге Китая действительно существует народ И (кстати, гонимый тогда Мао Цзе-дуном), […] не могли ни в чем убедить моих преследователей» ( Липкин С . Странички автобиографии [https://biography.wikireading.ru/hGcsgXAL8K]). Стихотворение, в котором Липкин романтически восславил безвестную народность, тем самым по-своему выразив советскую идеологию поощрения малых народов и культур, оказалось воспринято как подрывная, «типично еврейская» мимикрия с целью высказать запрещенные политические взгляды.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
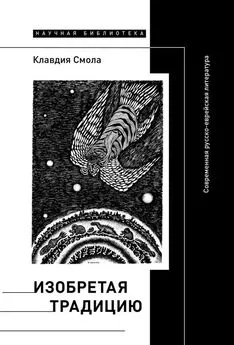




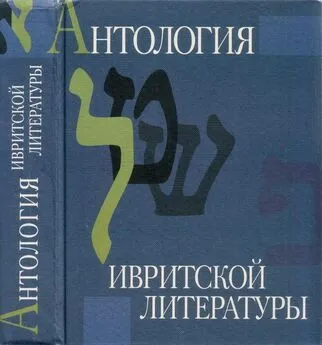
![Кирилл Королев - «Изобретая традиции»: метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в славянской фэнтези [статья]](/books/1068720/kirill-korolev-izobretaya-tradicii-metamorfozy-f.webp)
![Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]](/books/1085421/alek-epshtejn-zabytye-geroi-monparnasa-hudozhestven.webp)