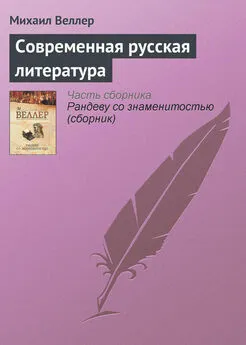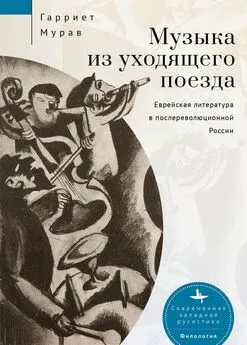Клавдия Смола - Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
- Название:Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444816035
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клавдия Смола - Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература краткое содержание
Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
129
Напомню, что со второй половины 1960‐х годов в русской литературе – как неподцензурной, так и официальной – все более явственно стали поднимать проблему культурного существования «малых» народов Советского Союза. Первые рассказы крымско-татарского автора Эрвина Умерова, в которых изображаются преследования и депортации крымских татар, были написаны в 1960‐х, а опубликованы в 1990‐х годах. Киргиз Чингиз Айтматов в своем романе «И дольше века длится день» (1981) корректирует и одновременно подрывает генеральную линию социалистического реализма, противопоставляя примордиальную этническую память казахов и общую амнезию позднесоветского общества, а русский Анатолий Приставкин пишет в те же годы повесть «Ночевала тучка золотая», в которой впервые затрагивает тему изгнания и принудительного переселения чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию в 1944 году (публикация стала возможной лишь в конце 1980‐х годов). Много позже, уже во второй половине 1990‐х годов, был написан роман «Божья матерь в кровавых снегах» хантыйского/остяцкого писателя Еремея Айпина ( остяки – старое название хантов ): Айпин рассказывает о жестоко подавленном Красной армией восстании остяков 1933–1934 годов и почти полном истреблении этого народа (см. [Smola 2016; Смола 2017a]). Хотя с хронологической, структурной и стилистической точек зрения эти тексты и их авторы занимают разное положение по отношению к доктрине соцреализма – от нонконформизма до веры в человечность канона, – все они в данный период творят контекст этнической эмансипации. Расшатывание и подрыв канона, тема Другого проявляются по-разному и имеют разную идеологическую окраску. Галина Белая называет 1960–1970‐е годы периодом саморазрушения советской литературы (« self -destruction») [Belaia 1992: 1].
130
О Джамбуле Джабаеве как о советском Gesamtkunstwerk см. сборник статей: [Богданов/Николози 2013].
131
В основу этой главы легла моя статья [Smola 2011c]. Кроме того, я отсылаю к главе «Империя перевода» («Translating Empire») монографии Харриет Мурав того же года [Murav 2011: 285–318]. Ее анализ липкинского перевода киргизского эпоса «Манас» (1948) важен для моей интерпретации «Декады» как неявного исторического свидетельства о позднесоветской еврейской контркультуре: «В „Манасе“ Липкин находит опосредованное (через Коран) влияние истории Исхода. […] Его трактовка […] выдает его собственную приверженность сионистскому идеалу, и в то же время близость киргизскому эпосу он выражает именно как еврей. Перевод „Манаса“ на русский язык был способом перевести собственные еврейские проблемы в доступную литературную форму» [Ibid: 305]. С этой точки зрения переводческую и писательскую работу Липкина можно интерпретировать как одно из многочисленных воплощений эзопова языка в советской культуре.
132
Социокультурные изменения в советском еврействе после 1953 года уже анализировались в ряде работ, поэтому я ограничиваюсь здесь лишь существенными пунктами (см., в частности: [Gitelman 1988: 268–294; Nakhimovsky 1992: 32–38; Terpitz 2008: 29–59; Ro’i 2012]).
133
Новейший обзор научной литературы, посвященной влиянию Шестидневной войны на самосознание советских евреев, см. в: [Cantorovich/Cantorovich 2012: 133]; кроме того, Шестидневной войне посвящен том [Ro’i/Morozov 2008].
134
Ярон Пелег рассматривает Шестидневную войну как поворотную точку в формировании идеала мужественности «нового» израильтянина, «процессе маскулинизации»: «…воинственные, агрессивные черты нового еврея, начавшие культивироваться еще в Европе и мигрировавшие в Израиль вместе с пионерами сионизма, […] стали определять облик израильских мужчин более, чем какая-либо другая черта» [Peleg 2015: 184].
135
Впрочем, Нахимовски пишет, что еврейская самиздатская деятельность, особенно в удаленных от центра власти прибалтийских республиках, возникла уже в конце 1950‐х годов (в Риге – в 1957 году); в частности, там распространялись книги Владимира Жаботинского и Шимона Дубнова [Nakhimovsky 1992: 34–35].
136
Переворот, вызванный в мировоззрении советских евреев Шестидневной войной, описывает Яков Рои [Ro’i 2008].
137
См. об этом главу «1970‐е годы – забвение коммунистической перспективы» в монографии Екатерины Сальниковой [Сальникова 2014: 284–293].
138
В отличие от нонконформизма как позиции – куда более гибкой, лавирующей между сферами официального, полуофициального и неофициального.
139
«Не подлежит сомнению, что в умах своих нееврейских соотечественников евреи ассоциировались с Израилем» [Ro’i 2008: 256].
140
Ср. также меткую формулировку Эли Визеля: «Противоречивая политика. В результате проблема сохраняет свою остроту. Еврею нельзя быть ни евреем, ни неевреем» [Wiesel 1966: 99].
141
Применительно к советскому еврейству понятие ассимиляции гораздо чаще используют для того, чтобы подчеркнуть утрату этнических традиций. Сами еврейские интеллектуалы тоже считали себя ассимилированными, как видно, в частности, из свидетельств Эфраима Севелы (см. далее).
142
Переклички между диегезисом в произведениях очень разных еврейских авторов выражаются в упоминании аналогичных событий, фактов и впечатлений: дискриминации персонажей на службе или в учебном заведении из‐за указанного в паспорте или явствующего из имени и/или внешности еврейского происхождения; травли евреев на улице, в общественном транспорте или в школе накануне и во время «дела врачей» 1953 года; доносов на работе, начавшихся после подачи заявления на выезд в Израиль и др. В этом смысле такие произведения, как «Свежо предание» (1962) Ирины Грековой, «Пятый угол» (1967) Израиля Меттера, «Некто Финкельмайер» (1975) Феликса Розинера, «Псалом» (1975) Фридриха Горенштейна, «Остановите самолет – я слезу!» (1975) и «Мама. Киноповесть» (1982) Эфраима Севелы, «Герберт и Нэлли» (1984) Давида Шраера-Петрова, «Лестница Иакова» (1984) и «Оклик» (1991) Ефрема Бауха, «Исповедь еврея» (1993) Александра Мелихова, как бы образуют единый квазиисторический гипертекст.
143
См., в частности: [Щаранский 1999; Воронель 2003а; Лазарис 1981; Bland-Spitz 1980; Armborst 2001, 2004; Pinkus 1994; Govrin 1995; Телушкин 1997: 383–392; Friedgut 2003; Beizer 2004; Gitelman 1988: 268–292]. Особо стоит упомянуть изданный Яковом Рои том «Еврейское движение в Советском Союзе» («The Jewish Movement in the Soviet Union») [Ro’i 2012].
144
Изучение автобиографий и мемуаров еврейских активистов и отказников лишь начинается: см., например: [Hoffman 2012].
145
Лора Бялис документирует историю движения отказников в фильме «Refusenik» («Отказник», 2007), в котором говорят участники, свидетели и историки борьбы за исход. В этом фильме заметны черты романтической героизации эпохи и ее акторов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
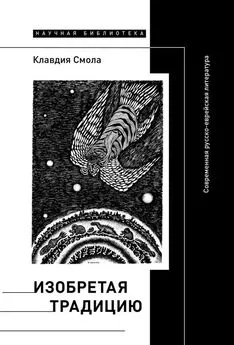




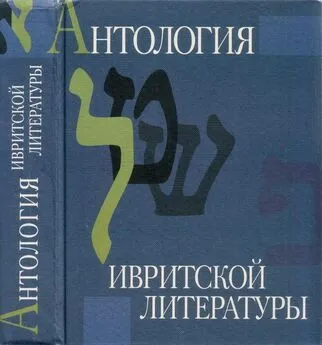
![Кирилл Королев - «Изобретая традиции»: метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в славянской фэнтези [статья]](/books/1068720/kirill-korolev-izobretaya-tradicii-metamorfozy-f.webp)
![Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]](/books/1085421/alek-epshtejn-zabytye-geroi-monparnasa-hudozhestven.webp)