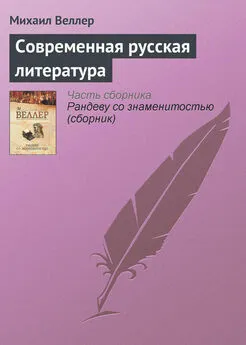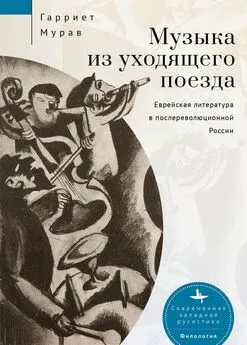Клавдия Смола - Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
- Название:Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444816035
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клавдия Смола - Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература краткое содержание
Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Прием слияния слов, языков, смыслов, стилистических регистров и цитат, образующих новые стилистико-семантические единицы, не раз изучался в последние годы в контексте поэтики «гибридного юмора». Последний наблюдают в текстах, позиционирующих себя как «маргинальные» или миноритарные, у авторов-диссидентов или авторов-мигрантов; в духе постколониальной детабуизации он связывает или сталкивает разнородные либо противоположные элементы (см.: [Dunphy/Emig 2010: 7]): «Процесс гибридизации может приводить к смешению идентичностей […], также мигранты вполне могут сочетать культуры в пределах индивидуального культурного конгломерата» [Ibid: 9]. Прозу Юрьева можно считать репрезентативным примером такой «юмористической постколониальной интервенции» [Ibid: 26], подрывающей или ломающей мононарративы как пишущего, так и изображаемого «я».
Как мы видели, принцип инверсии и деконструкции явлен в романе в отрицании линейной, монофонической советской историографии. Параллелизм, синхронизация и деиерархизация разных исторических моделей, (анти)еврейских властных дискурсов и техник письма – все это инструменты ревизии коллективно созданных фактов и их симулякров. Сама текстура «Полуострова Жидятина» то и дело порождает маниакальное кружение вокруг одних и тех же текстов, песен, паремий, объектов и ритуалов, раз за разом всплывающих в речи рассказчика 410. Один из таких навязчивых повторов – ритуал похода в кино на фильм «В джазе только девушки». Танцующая пышногрудая звезда, которую по праздникам показывают в клубе Балтфлота (в том числе в день советского военно-морского флота), – Мэрилин Монро, секс-символ Запада 1950-х годов – превращается в застывший артефакт, становясь жутким, мертвенным идолом, маской:
На отличников боевой и политической подготовки стекает уже с экрана страшный, кондитерский запах смерти. А меня так от этой вечной Мерилин Монро уже просто тошнит! – просто передергивает и сводит челюсти от этих ее скачущих невозмутимых сисек, от этих ее толстых, заходящих одна за другую ног, от пергидрольной белизны неподвижных волос [Юрьев 2000: 109].
Раз за разом демонстрируемый гламурный облик Мэрилин Монро перекликается с бесконечно тиражируемыми, отретушированными изображениями престарелых советских руководителей 411: застывшие, как у мумий, лица знаковых фигур предвещают скорый крах изжившей себя системы. Медийным отражением смерти Черненко становится не только его висящая на каждом углу траурная фотография, но и образ вечно молодой дивы капиталистического мира в эпоху холодной войны. Похожим образом популярная песня «Раскинулось море широко…» служит пустой оболочкой, наполняемой все новым, по большей части непристойным содержанием. Навязчивый автоматизм цитирования переходит в пародию: « Зараза-жиличка сломала ты все, сказал кочегар кочегару… » [Там же: 98]. Похабные пословицы и абсурдные стишки дополняют это семантически и интертекстуально перегруженное, ассоциативное, герметическое письмо (ср., например: [Там же: 101]). Сплетенная из серийных или циклических повторов и вариаций ткань романа передает иррациональное, психотическое состояние (полудетского) сознания, невозможность линейности и развертывания и стертость старых семантических связей. «Заедающий» текст становится иконическим отражением 412исторической реальности.
В удвоении и зеркальности повествовательной перспективы (или перспектив) обеих частей романа проявляются «балансирование между разными позициями» и «раскол „я“» [Hausbacher 2006: 251], которые Ева Хаусбахер усматривает в постколониальных литературных идентичностях: «…двойная или множественная личность – парадигматический мотив постколониальной литературы», сопровождаемый симбиотической «связью настоящего с прошлым» [Ibid]. Именно гибридная – или расщепленная, если рассматривать оба внутренних монолога как части одного, – точка зрения передает разные и по-разному ограниченные внутренние взгляды на русское еврейство: и это с самого начала исключает однозначное толкование истории – фабулы текста и истории евреев. Игра с дискурсами и историко-культурными (контра)фактами, а также приемы иронии, пародии и метафикции 413обнаруживают общую для постмодернистского и постколониального письма тенденцию к деконструкции застывших нарративов и форм. В результате анализируется «система знаний и репрезентаций» – «сама деконструкция […] оборачивается методом интеллектуальной деколонизации» [Бахманн-Медик 2017: 224].
Постмодернистский мидраш Якова Цигельмана: «Шебсл-музыкант»
Утрата еврейскими литературами Восточной Европы прежней системы культурных отсылок и живой связи с читателем стала, особенно с конца 1980-х годов, импульсом к появлению новых поэтик. Ситуация, в которой потеря исторической памяти и традиций оказалась основным предметом литературы, породила, как уже говорилось во Введении к этой книге, разные и подчас несовместимые тенденции: с одной стороны, к реконструкции и архивированию, с другой – к компенсаторным практикам воображения, а порой и радикальному переизобретению. Постмодернистская проза с ее палимпсестной структурой, эклектизмом, интертекстуальным антипафосом, растворенной в тексте аукториальной инстанцией, а также безостаточной дискурсивностью становится тропом воспоминания . Такая литература – и это роднит ее с еврейским жанром мидраша – занимается экзегетикой прошлого: она переводит предание на идиоматический язык модерна и постмодерна.
В романе «Шебсл-музыкант» (1996) Яков Цигельман 414предпринимает что-то вроде апдейта еврейского культурного наследия, инсценируя его талмудическое толкование. Иронически и сочувственно, бесцеремонно и любовно писатель стилизует приемы еврейской герменевтики, чтобы в итоге продемонстрировать полный, но неизменно творческий крах традиционного подхода к культуре еврейства и к вековой еврейской учености. Однако пестуемые (не без двусмысленности) сокровища еврейской мудрости как раз потому запускают механизм культурного при- и освоения, что говорят они здесь на сложном, семантически мерцающем языке современности и постоянно ставят под вопрос собственную догматическую интепретацию.
Михаил Вайскопф отметил в рецензии на роман, что он написан в форме мидраша – ученого комментария к отрывку из Танаха [Вайскопф 1999: 105]. История о музыканте Шебсле, рассказанная в начале романа, состоит из 271 главки, многие из которых, однако, содержат всего одну короткую фразу, так что собственно фабула занимает лишь двадцать две страницы; оставшиеся почти 300 (!) страниц приходятся на толкование этой истории несколькими увлеченными, образованными, охваченными духом талмудического диспута хасидами. Пристрастие этих ребе к скрупулезному толкованию деталей объясняется условностями жанра: в классическом мидраше ученые, пишет Лео Ростен, «но также и „дилетанты“-энтузиасты […] даже в самых простых стихах, в каждой точке, каждой запятой Библии [открывали] сложные смыслы […] Мидраш притязает на постижение „духа“ того или иного библейского места и предлагает неочевидное толкование (не всегда, правда, убедительное)» [Rosten 2008: 375]. Цигельман играет с этим жанром «изощренного толкования, изложения и экзегезиса священных текстов» [Ibid: 374], заставляя своих евреев спорить, вдаваясь в мельчайшие детали, о гротескной, местами не поддающейся толкованию истории, отчасти профанной, отчасти мистической. Цитаты из талмудического учения и каббалы, а также подробные исторические сведения о мире штетлов и еврейской этике соседствуют с далеко идущими объяснениями незначительных, обыденных событий, так что граница между серьезностью и пародией размывается. Именно в этой двойственности и заключается художественное обаяние текста: игровой, юмористический подход к еврейству говорит о стремлении к интеллектуальному аффирмативному бунту ; скрупулезный комментарий и многочисленные сведения, напротив, передают позицию внимательного культуролога, заинтересованного археолога культуры. Как раз из последнего обстоятельства и становится очевидным, что традиционное еврейское письмо уже невозможно без исторического разъяснения, а иудаистская экзегетика сможет достичь современного читателя лишь в том случае, если сумеет воскресить условия своего возникновения – жизненный мир толкователей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
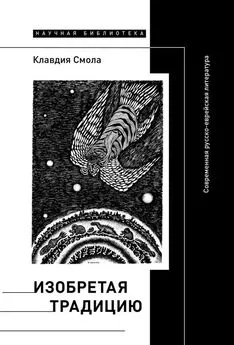




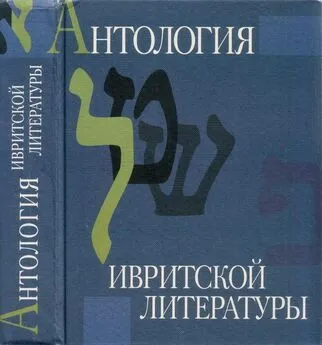
![Кирилл Королев - «Изобретая традиции»: метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в славянской фэнтези [статья]](/books/1068720/kirill-korolev-izobretaya-tradicii-metamorfozy-f.webp)
![Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]](/books/1085421/alek-epshtejn-zabytye-geroi-monparnasa-hudozhestven.webp)