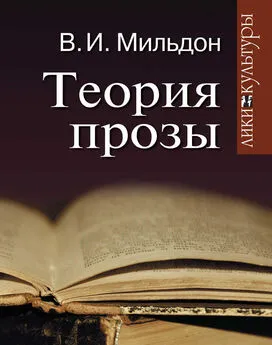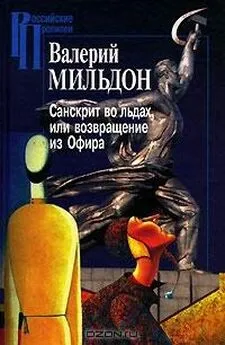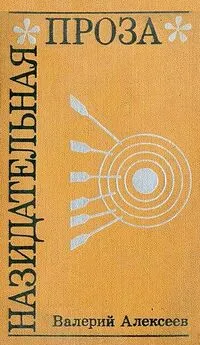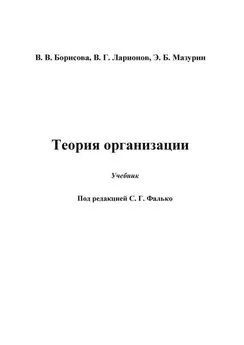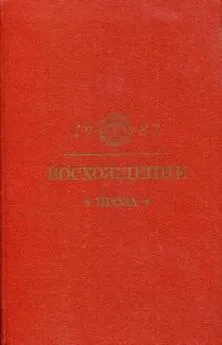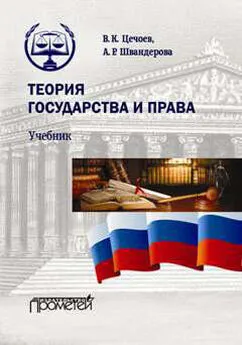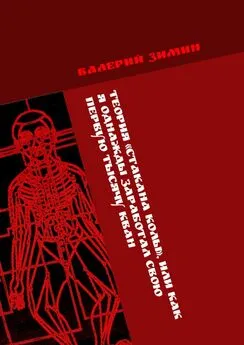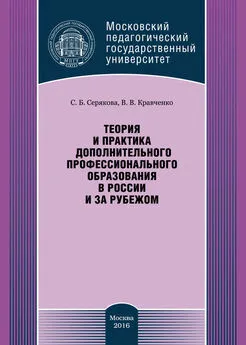Валерий Мильдон - Теория прозы
- Название:Теория прозы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-98712-050-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Мильдон - Теория прозы краткое содержание
Теория прозы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И вторая, разумеется, – анекдоты Д. Хармса о русских прозаиках: «Однажды Гоголь переоделся Пушкиным, сверху нацепил львиную шкуру и поехал в маскарад. Ф. М. Достоевский, царство ему небесное, увидел его и кричит: “Спорим, это Лев Толстой! Спорим, это Лев Толстой!”» 135 135 Хармс Даниил. Повесть. Рассказы… СПб.: Кристалл, 2000. С. 478.
.
Здесь так же смешаны эпохи (в данном случае не имеет значения, что цитированные строки не обязательно принадлежат Хармсу), как это делали Ремизов и Белый. Говоря «так же», я имею в виду прием, один у разных авторов, что, полагаю, и свидетельствует об однородности художественных поисков в прозе, выходящих из границ индивидуальной поэтики.
Возвращаюсь к Лескову и к следам пушкинского опыта в его прозе. Эти следы свидетельствовали, что заканчивался очередной, «прозаический», цикл отечественной словесности и приближалась новая, «поэтическая», волна с присущим ей интересом к языку. За три года до смерти Лескова, в 1892 г., Д. Мережковский в статье «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» ясно определил эту новую волну.
Однако, в отличие от пушкинского времени, не остывала работа над композицией, и она шла по тому руслу, о котором думал Пушкин, сочиняя «Повести Белкина», – по руслу романа-цикла. Мережковский сам создает трехчастный цикл «Христос и Антихрист» («Юлиан Отступник», «Леонардо да Винчи», «Петр и Алексей») и цикл «Царство Зверя» (пьеса «Павел I», романы «Александр I» и «Николай I»). Ф. Сологуб пишет «Творимую легенду», небольшой цикл из трех романов. А. Белый задумывает аналогичный цикл «Запад или Восток?», из которого пишет «Серебряного голубя» и «Петербург», за третий роман, «Невидимый град», он так и не взялся, как не осуществил замысел и другого цикла – «Моя жизнь». Создают циклы С. Н. Сергеев-Ценский («Преображенная Россия») и М. А. Алданов (тетралогия «Мыслитель»). Сохранились сведения, что С. Клычков тоже задумал и частично осуществил (подобно А. Белому) роман-цикл «Живот и смерть». Он должен был состоять из трех трилогий (напоминая «циклоид» Д. Мережковского). Первая, «Сорочье царство» (о 60–90-х гг. ХIХ в.), включала романы «Чертухинский балакирь» (1926), «Князь мира» (1928) и «Серый барин» (заявка на его издание датирована 1929 г.). Состав второй трилогии, «Последний Лель» (время Первой мировой войны) предполагался таким: «Китежский павлин», «Заяц из двенадцатой роты» и «Сахарный немец» (1925). О третьей трилогии нет сведений 136 136 Клычков С. Собр. соч.: в 2 т. М.: Эллис Лак, 2000. Т. 2. С. 589. Комментарии Н. Солнцевой. – Подробнее о романах С. Клычкова в кн.: Солнцева Н. Последний Лель. О жизни и творчестве Сергея Клычкова. Московский рабочий, 1993. С. 102 и сл.
. Все это – новые подтверждения того, что пушкинская идея не замерла.
Подведу предварительный итог результатам Введения, учитывая, что в дальнейшем они будут рассмотрены в подробностях.
Есть эпохи, когда развитие прозы определяется процессами языка, такие эпохи следуют за интенсивным развитием поэтической (стиховой) речи. Они сменяются эпохами прозаической речи: интерес от языка перемещается к построению (композиции) большого повествовательного произведения. В эту пору стихи, работа над языком (лексика, интонация) уходят на второй план, как и внимание к малой прозаической форме (рассказ, повесть).
Разумеется, выделить подобные эпохи в чистом виде можно лишь на бумаге. В реальности литературного движения взаимодействие языка и композиции идет постоянно, чаши весов безостановочно колеблются, но колебания носят циклический характер, т. е. обладают повторяющейся периодичностью, законы которой определяются искусством слова и не зависят от исторических (социальных, экономических, демографических и пр.) перемен.
В качестве завершающего довода воспользуюсь русской стихотворной практикой ХVII столетия.
Б. Успенский обнаружил, что церковная служба на Руси читалась, а не пелась . При этом «…язык церковного богослужения, несомненно, был противопоставлен в произношении живому просторечию» 137 137 Успенский Б. А. Архаическая система церковнославянского произношения (из истории литургического произношения в России). Изд-во Московского университета, 1968. С. 94.
.
Соотношение фонетик богослужебной и просторечной можно уподобить соотношению фонетик поэтической (стихотворной) и прозаической, в которой, по сравнению со стихами, преобладают элементы просторечия или которая в поисках нового языка обращается к ним. Такое обращение, однако, сначала происходит в поэзии.
Б. Успенский высказывает гипотезу, что названная система богослужебного произношения могла сложиться «в эпоху так называемого второго южнославянского влияния.
Действительно, именно в эту эпоху в Россию проник южнославянский витийственный стиль (связанный с книжными реформами патриарха Евфимия Тырновского), и язык церковной литературы стал стилистически противопоставляться бытовой речи, тогда как прежде он сравнительно мало от нее отличался» 138 138 Там же. С. 95.
.
Иными словами, наблюдаем явление, которое целиком определяется понятием «языка», ибо церковная лексика оказала заметное влияние на первые шаги профессионального русского стихотворчества. Это-то и подметил исследователь, комментируя вышеприведенную гипотезу: «Вправе ли мы утверждать, что те же принципы [не пения, а чтения и соответствующего ему слогообразования и ударения. – В. М. ] лежат в основе декламационных норм силлабических виршей?» 139 139 Панченко А. М. Русская стихотворная культура ХVII в. Л., 1973. С. 218.
.
Автор ссылается на «Проблему стихотворного языка» Ю. Тынянова (1965, с. 40–41), где говорится о чередовании «поэзии» и «прозы» в историческом развитии литературы. В практике ХVII столетия этому соответствует «пение» и «говорение». Поэзия и проза особенно противоборствуют в эпоху поиска новых форм, а не при использовании устоявшихся. Подобную черту заметил критик в творчестве В. А. Жуковского: «Однообразие мысли Жуковского как будто хочет замениться разнообразием формы стихов <���…> Он отделывает каждую ноту своей песни тщательно, верно, столько же дорожит звуком, сколько и словом <���…> Продолжительные переходы звуков предшествуют словам…» 140 140 Полевой Н. Очерки русской литературы. С. 123.
.
Для Н. Полевого Жуковский «поёт», а не «говорит», – явление, характерное для русской поэзии 10–20-х годов ХIХ в., следы чего можно найти и в тогдашней прозе, которую сплошь и рядом создавали поэты. Так будет в конце ХIХ – начале ХХ в. (проза А. Белого, например), в конце 50-х годов ХХ в. Не исключено, так было и в последней трети ХVII столетия, когда силлабика исчерпала свои эстетические ресурсы и потребовалась иная форма.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: