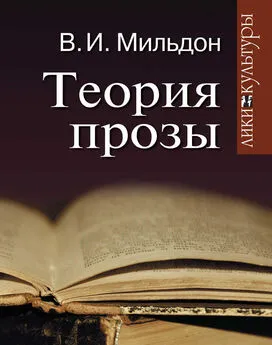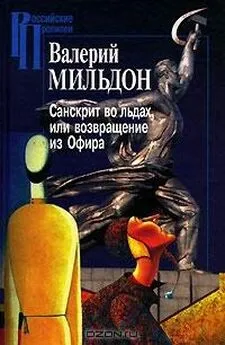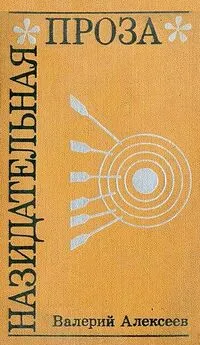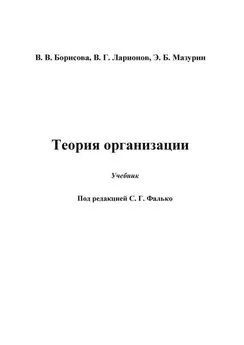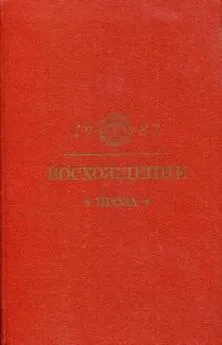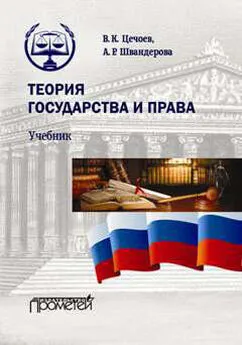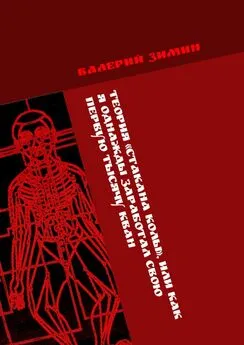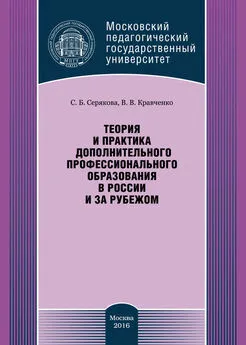Валерий Мильдон - Теория прозы
- Название:Теория прозы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-98712-050-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Мильдон - Теория прозы краткое содержание
Теория прозы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эту линию продолжал Ремизов, пересказывая, подобно Лескову, литературный материал разных эпох и народов. При сопоставлении русской повести ХVI в. «О Петре и Февронии» и ее пересказа Ремизовым видны особенности его работы. Кроме второстепенных деталей, не влияющих на развитие событий; некоторых психологических мотивов, которых не знал исходный текст, Ремизов следует старорусской сюжетной схеме. Оригинальность работы писателя в языке – такова художественная задача пересказа, независимо от степени ее осознанности самим автором.
Сравню два отрывка.
«Глагола еи юноша: “Вижу тя, девице, мудру сущу. Повежь ми имя свое”. Она же рече: “Имя ми есть Феврониа”. Тои же юноша рече к ней: “Аз есмь муромъскаго князя Петра, служаи ему. Князь же мои имея болезнь тяжку и язвы. Острупленну бо бывшу ему о крови неприазниваго летящаго змиа, его же есть убил своею рукою”» 113 113 Хрестоматия по древней русской литературе. Изд. 8. М.: Просвещение, 1973. С. 243.
.
Тот же эпизод у Ремизова:
«…И подумал [слуга Петра. – В. М. ]: “не простая!”
– А как тебя звать?
– Февронья.
“И имя замысловатое, – подумал Гридя, – Февронья!”
– Я муромский, служу у князя, – и он показал на гривну – серебряное ожерелье,– приехал с князем: князь болен: весь в сыпи.
– Это который: змееборец?
– Петр Агриковым [мечом. – В. М. ] отсек голову летучему Змею и острупел от змеиной крови. Наши муромские помочь не могут, говорят, у вас больше ведуны» 114 114 Ремизов Алексей. Сочинения. Кн. 2. М.: Терра–TERRA, 1993. С. 311. – Дальше страницы указываются в тексте.
.
Хотя эта вещь написана в 1951 г., опубликована же и вовсе в 1971-ом, автор пользовался средствами поэтики, свойственной ему в начале ХХ столетия, когда сочинялись «Лимонарь» (1907), «Докука и балагурье» (1914) – вариации византийских агиографий и русских сказок. Ремизов сам всегда называл свои источники. В авторском комментарии «Сказ» к «Докуке и балагурью» он пишет:
«Для пересказа народных сказок я пользовался записями, нигде не напечатанными – запись московская, сольвычегодская и грязовецкая, и записями, напечатанными в Живой Старине , и записями из сборника Н. Е. Ончукова, Северные сказки, Записки Импер. Рус. Геогр. Общ. По отделу этнографии ХХХVIII. СПб., 1909» (237, пунктуация автора).
Пересказ позволял обновить язык, а средствами языка – образный материал тогдашней прозы. По своему дару Ремизов принадлежал не к «строителям» сложных, объемных композиционных массивов, а к мастерам слова, развивая, повторю, традиции зрелого Лескова, обратившегося к пересказам византийских легенд («Скоморох Памфалон», 1887), житийной литературы из Прулогов – древнерусских агиографических сборников ХII–ХIII вв. («Гора», 1890, «Невинный Пруденций», 1891).
Как и Лесков, Ремизов не занимался стихотворчеством, разумея под стихом нечто эстетически либо экспериментально значимое. Однако его «пересказанная» проза иногда чуть ли не буквально совпадает с поэтическими образцами его литературных современников. Так, строки ремизовского «Покорения Казани» (1914): «Эй, подкопщики, зажигальщики, ваш час настал!» (1, 342) близки хлебниковскому «Эй, молодчики, купчики, / Ветерок в голове…». А первые строчки «Гнева Ильи Пророка» (из «Лимонаря», 1907) напоминают ритмику белого стиха (ставлю строчный разграничитель там, где он мог бы невидимо находиться в случае стиха):
«Необъятен в ширь и в даль подлунный мир –/
пропастная глубина, высота поднебесная./
Много непроходимых лесов, непролазных трущоб и болот,/
много непроплывных рек,/бездонно бурных морей,/
много диких горбатых гор громоздится под облаки./
Страшны бестропные поприща,– труден путь./
Но труднее самого трудного/тесный, усеянный колючим тернием путь осуждения – в пагубу» (2, 13).
Сравним со стихами М. Цветаевой из ее сборника «Версты» (1922):
Ветры веяли, птицы реяли,
Лебеди слева, справа – вуроны…
Наши дороги – в разные стороны.
Ты отойдешь – с первыми тучами,
Будет твой путь – лесами дремучими, песками горючими.
Душу – выкличешь,
Очи – выплачешь.
Мысль о Ремизове, не писавшем стихов, но прозой напоминающего о стихах, приходила на ум его критикам. В статье 1910 г. «Стилист-рассказчик» В. Пяст заметил: «…Ремизов никогда не написал рифмованной строки… Ремизов – исключительно беллетрист, рассказчик с занимательной фабулой, рассказчик о самом будничном, близком, нужном, понятном…<���…>
Он – бытовик; он – и тончайший психолог, язык его безупречно простой, бесконечно тонкий… <���…>
Именно к Лескову по характеру таланта подходит Ремизов. Как и Лесков, пускаясь в области, где так заманчива модная стилизация, Ремизов везде остался настоящим “стилистом”, но отнюдь не “стилизатором”» 115 115 Пяст Вл. Встречи. М.: НЛО, 1997. С. 269.
.
Стилист, а не стилизатор. Стиль – это свое, с применением ли чужого, нет ли – второстепенно. Стилизатор – подражатель, он берет лишь чужое, поскольку своего нет.
Прозой, заставляющей вспомнить поэзию, Ремизов тоже близок Лескову, которого – в связи с такой близостью – можно рассматривать, во-первых, как писателя, ощутившего кризис прозы в конце XIX в.; во-вторых, начавшего поиски нового стиля. Одним из приемов этой новизны явилось использование в прозе приемов стихотворства. В отличие от Ремизова, у которого эти приемы носили, скорее всего, неосознанный характер, Лесков их осознавал. О «Скоморохе Памфалоне» он говорил, что повести присуща некая музыкальность языка, и потому «можно скандировать и читать с каденцией целые страницы» 116 116 Лесков Н. С. Собр. соч.: в 11 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 8. С. 585.
.
Близость прозы Ремизова стиху не случайна и вновь наталкивает на идею закономерности в движении литературы. Сказал «вновь», потому что об этом уже говорилось выше, особенно беря в расчет, что похожее соотношение прозы и стиха наблюдается в творчестве М. Кузмина (может быть, не случайно, что ему Ремизов посвятил только что упомянутый рассказ «Гнев Ильи Пророка»).
Кузмина, как Ремизова и Лескова, влекли разного рода «пересказы» – один из приемов, в том числе имитация подражания известным прежде формам и образцам: античному роману IIIII вв. («Приключения сэра Джона Фирфакса», 1910), эллинистическому «Роману об Александре» («Подвиги Александра Великого», 1909, одна из книг «Нового Плутарха» – серии об известнейших лицах прошлого, так и не написанной Кузминым в задуманном объеме); французскому авантюрному роману ХVIIХVIII вв. («Приключения Эмэ Лебефа», 1907).
Подобно Лескову, Кузмин работает с языком и новым для тогдашней прозы образным материалом, но, в отличие от Лескова и Ремизова, Кузмин шел (как некогда Пушкин) к прозе от стиха, и его будущие «пересказы» читаются в первом поэтическом сборнике «Александрийских песнях» (1906).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: