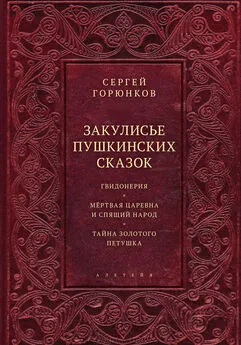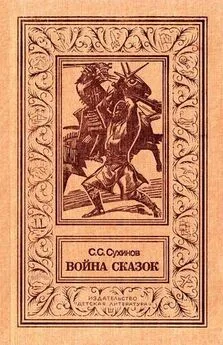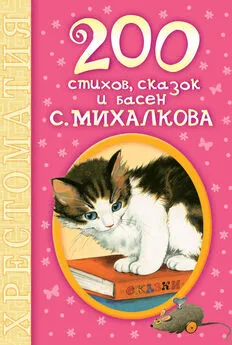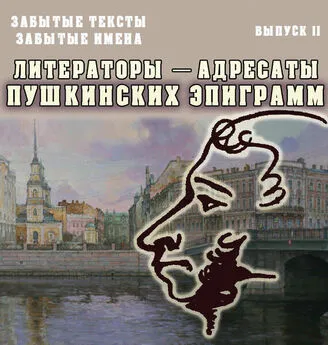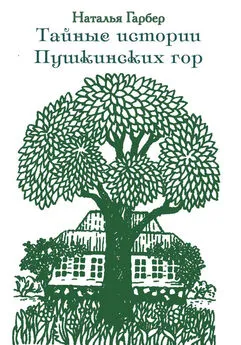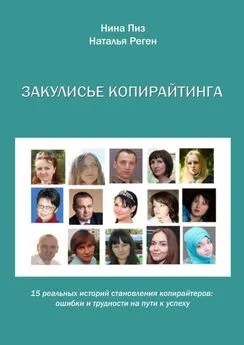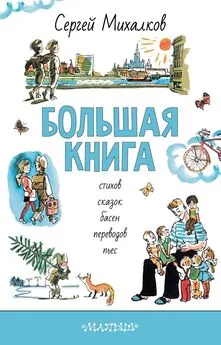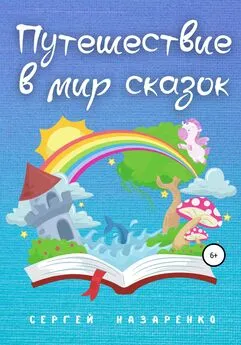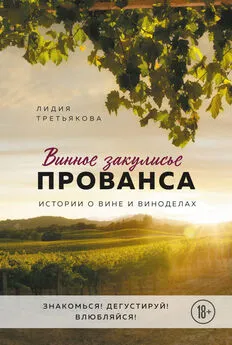Сергей Горюнков - Закулисье пушкинских сказок
- Название:Закулисье пушкинских сказок
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00165-131-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Горюнков - Закулисье пушкинских сказок краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Закулисье пушкинских сказок - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Глава 6
Белка под ёлкой
Должен признаться, что ни один образ «Сказки о царе Салтане» не заставил меня промучиться над его разгадкой так, как образ «белки под ёлкой». Причём вовсе не потому, что здесь ничего нельзя было просто придумать. Как раз наоборот: всевозможные остроумные интерпретации смысла этого образа напрашивались в огромном количестве уже лишь потому, что и «белка», и «ель» входили в широко распространенную в XVIII в. международную систему условных обозначений. Они были включены в «Каталог эмблем и символов», переведённый в начале века с амстердамского издания на русский язык и напечатанный в 1719 г. в Санкт-Петербурге. В этой богато иллюстрированной черно-белыми гравюрами книге напротив изображения грызущей орех белки стоит надпись «Внутри сокрыто. Без труда не получишь», а напротив изображения ели с шишками – «Всегда есть созрелый плод».
Проблема, однако, заключалась не в том, чтобы вчитать в сказку ту или иную правдоподобную её интерпретацию, а, наоборот, в том, чтобы доказательно вычитать из неё её собственную (точнее – пушкинскую) скрытую мысль. Но вторая цель заведомо переставала быть достижимой на пути отвлеченно головной «игры в символы», никак не связанные друг с другом. Интуиция подсказывала мне, что поверхностными аналогиями (вроде той, что усматривает в грызущей орех белке символ взятия крепости Нотебург-Орешек) здесь не обойтись. Похоже было, что и «белка», и «ель» использовались Пушкиным лишь как исходные буквы алфавита для создания какого-то иного, наделённого гораздо более содержательным смыслом, текста.
К этому тексту нужно было найти ключ. И прежде всего на ум пришёл, конечно же, соблазн понять «белку» – этого хлопотливого и запасливого зверька – как символ модной во времена Петра I теории «меркантилизма», или «национальной экономики». Данная теория включала в себя, во-первых, требование развития в стране собственной крупной промышленности и поиска внешних рынков для сбыта её продукции, а во-вторых, запрет на экспорт сырья и на импорт тех иностранных промышленных товаров, которые можно было произвести в своей стране 35. Но тут я, к своему большому удивлению, обнаружил, что и в системе русских народных воззрений (в пословицах и поговорках), и в литературе XVIII в. (в баснях о животных) настойчиво проводится точка зрения на белку не как на олицетворение трудолюбия и бережливости, а как на символ бессмысленной суетливости («Работает, что белка в колесе, суетливо и без пользы»).
Загадочной оказалась и «ель»; здесь тупиковых направлений мысли оказалось особенно много. Казалось бы, слова сказки «Ель растёт перед дворцом, А под ней хрустальный дом» позволяли увидеть в этом вечнозелёном дереве либо какую-то всем хорошо известную городскую дендропримечательность того времени, либо её имитацию, вроде пирамидального («елеобразного») триумфального сооружения, стоявшего при Петре I на Троицкой площади перед зданием первого Сената («коллегий»). Но, согласно черновому варианту того же места сказки, дом находился не под елью, а над ней. А это выводило уже на совершенно иные круги ассоциаций.
Какие только версии я ни «прокручивал»: изучал язык аллегорий XVIII в. по соответствующим описаниям фейерверков и иллюминаций, а также по сюжетам барельефов, украшавших залу общего собрания Правительствующего Сената в XVIII в.; прослеживал топонимику раннего Петербурга по доступным мне изданиям первоисточников и т. п. Когда уже начала исчезать последняя надежда на разрешение загадки, я обратил внимание на следующие строки сказки: «Белка в нём (то есть в доме. – С. Г.) живет ручная» и «Князю – прибыль, белке – честь». Не шла ли тут речь о конкретном лице? Я погрузился в изучение дворянских гербов того времени, надеясь отыскать в каком-либо из них изображение белки или ели. И Бог знает, сколько бы я этим занимался, если бы меня не осенила ещё одна догадка: не имеет ли здесь место игра слов, построенная на ассоциации с именем искомого лица? А если так, то не является ли этим искомым лицом Генрих фон Фик, уроженец Гамбурга, один из видных сотрудников Петра I, поступивший на русскую службу в 1715 г.? В. О. Ключевский пишет о Фике, что он подвернулся Петру под руку как раз в тот момент, когда перестройка органов управления в связи с нехваткой финансов стала сверхактуальной, и что Фик принял в этой перестройке самое деятельное участие (считаясь специалистом по лучшим в ту пору во всей Европе шведским коллегиям, он даже был командирован в Швецию для изучения их работы на месте). Между прочим, Фику принадлежала идея о завершении коллегиальной реформы созданием стоявшего над Сенатом Высокого тайного совета, каковой, под названием Верховного, и был после смерти Петра I создан Екатериной I. Анна Иоанновна уничтожила этот совет, а Фика разжаловала и сослала. Но при Елизавете Фик был возвращен из ссылки и умер в 1750 г. в чести.
Имя «Фик» явно ассоциируется и с немецким «Fihte» (ель), и с немецким «Feh» (беличья шкурка, беличий мех), и с немецким же «Fix» (проворный, ловкий). Но всё же чувствовалась в этих ассоциациях если не натяжка, то случайность. Слишком уж мелка, при всей её сверхтипичности, фигура Фика, чтобы играть ключевую роль в системе символических образов пушкинской сказки. Да и не имел Генрих фон Фик прямого отношения к собственно денежным делам страны. Скорее уж тут были бы уместны ведущие экономисты той эпохи, советники Петра I по финансовым вопросам (иноземные или отечественные, вроде А. Курбатова). А с учётом и их «мелковатости», ещё уместнее здесь выглядели бы уже не отдельно взятые личности, а само экономическое правительство Петра I (Большая казна, переимнованная в начале XVIII в. в Камер-коллегию). Но что такое «экономическое правительство», как не «принцип его функционирования»? А принцип этот был, как уже говорилось выше, меркантилистский, что заставило меня вернуться к данной теории и практике снова, но уже всерьёз.
Меркантилизм начала XVIII в. – это такая экономическая политика, которую характеризует активное вмешательство государства в хозяйственную жизнь страны. Вмешательство выражается в опеке над национальной экономикой, отсюда – «Слуги белку берегут, Служат ей прислугой разной». А опека подкрепляется всей военной мощью государства, отсюда – «Отдаёт ей войско честь». Но для полноценной опеки нужны развязанные в материальном отношении руки; вот почему в меркантилизме такое внимание уделяется вопросам упорядочения подушной подати, то есть увеличения количества и качества «белкиных орешков». С другой стороны, меркантилисты уже знают, что национальное богатство страны выразимо не только в деньгах, но и в подлежащих обмену на деньги продуктах производства; вот почему «орешки» состоят не только из «золотых скорлупок», но и из «изумрудных ядер». В отличие от ранних меркантилистов XVI – первой половины XVII в., поздние меркантилисты уже не запрещают вывоз из страны золотой и серебряной валюты, поэтому «Из скорлупок льют монету, Да пускают в ход по свету». А взгляд поздних меркантилистов на прибыль как на запас продуктов, который остаётся после удовлетворения внутренних потребностей страны и который должен затем на внешнем рынке превратиться в деньги, объясняет особенно бережное отношение белки к изумрудам: «Девки сыплют изумруд В кладовую, да под спуд»; «Изумрудец вынимает И в мешочек опускает…».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: