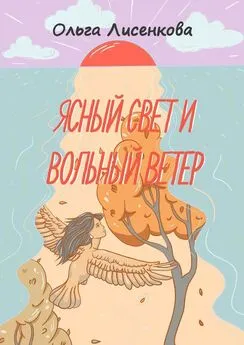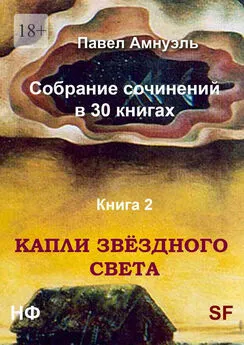Ольга Балла - Пойманный свет. Смысловые практики в книгах и текстах начала столетия
- Название:Пойманный свет. Смысловые практики в книгах и текстах начала столетия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005114488
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Балла - Пойманный свет. Смысловые практики в книгах и текстах начала столетия краткое содержание
Пойманный свет. Смысловые практики в книгах и текстах начала столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Любопытно, что, по наблюдениям автора, фактически получается вот что: сама возможность и разговора в русском обществе о его проблемах, и лежащего в его основе целостного видения была создана вроде бы незначительными сдвигами внутри русской речи, лексическими и даже интонационными смещениями, перестановками акцентов. Причём очень похоже на то, что такие перестановки и смещения происходили не вполне намеренно, больше исподволь. Ни для кого из героев Кобрина язык не был основным предметом внимания. Никто из них не был – по сознательной программе – языковым реформатором или, упаси Господи, революционером. Карамзину, конечно, мы некоторыми новыми словами обязаны; и он, и Герцен писали художественные тексты, однако же языковую оптику русского общества, позволяющую ему видеть собственные проблемы, они настроили совсем другими средствами. Чаадаев же и вообще изящной словесностью не занимался, из всех жанровых форм предпочитая наименее обязывающие: частные писем да заметки для самого себя, а лучше всего – устную речь. И вот тем не менее. То есть – тем вернее.
Трёх уколов в плоть исторического процесса, трёх взятых из его гущи проб Кобрину вполне достаточно: эти пробы тем более характерны, чем более прихотливо-индивидуальны, чем менее укладываются в рамки (а то даже и вовсе их ломают). Представляемая Кобриным картина и в мыслях не имеет быть исчерпывающей: ему важно показать точки роста и, что, кажется, и того важнее, – характер этого роста. Идеологемы и мыслительные инерции, которые мы застали уже в их затвердевшем, даже изношенном и опустошённом облике (как, например, противопоставление «России» «Европе»), он подстерегает в момент их возникновения, ещё до кристаллизации или в самом начале таковой – молодыми и гибкими. Рассказывая нам об этих трёх сюжетах из истории русской речи и мысли, он говорит нечто очень существенное об устройстве мысли как таковой.
В известном смысле Кобрин – прямой, хотя как будто не очень явный, наследник Мишеля Фуко с его вниманием к тому, как употребительные в некоторую эпоху слова, с характерными для них семантическими подробностями и тонкостями, определяют миропонимание этой эпохи. Кстати, свои характерные слова-ключи, формирующие видение предмета, есть и у него самого. В данном случае, применительно к рассматриваемому в книге кругу вопросов, такое слово – повестка.
Этим словом он обозначает список вопросов и тем – не обязательно формулируемых явно, но настойчивых – которые в определённую эпоху (а то и не в одну) чувствуются важными и обсуждаются, по отношению к которым людям этого времени волей-неволей приходится занимать позицию. Попадая в состав повестки, с лово обретает силу принудительности, начинает задавать характер видения обсуждаемых предметов. У таких вопросов, тем и слов есть – показывает нам автор – совершенно конкретные (и в этом смысле, вполне случайные) источники – и, как видим, даже авторство.
То, что Кобрин, со скрупулёзностью палеонтолога, здесь реконструирует – даже не история общественной мысли как таковой. Тут сложнее, тоньше: он проясняет историю её внутренних возможностей, их созревания и выхода на поверхность. Её неочевидных корней, не видимых прямому взгляду истоков и стимулов. Тех незаметных сдвигов, которые со временем приводят к далеко идущим структурным изменениям. Если и не в устройстве мира, то, во всяком случае, – в его понимании. Фактически он – открыто себе такой задачи не ставя – занимается микроструктурами внутри больших структур, пишет микроисторию больших смыслов.
Три представленных им интеллектуальных биографии – сюжеты из истории наших ключей к самим себе. И тут чрезвычайно велика воля случая: каждый из этих ключей, предоставленных русским языком, был выбран конкретными людьми в конкретных обстоятельствах, под влиянием этих обстоятельств и по своему вкусу ими настроенных. Потому так много внимания Кобрин уделяет обстоятельствам жизни своих героев – из этих обстоятельств растёт их речь, а с нею и способ видения: он показывает (частную) биографию как инструмент выработки (обретающего общезначимость) смысла. Хочется даже сказать – чем более частна и штучна биография, тем, выходит, радикальнее её смыслопорождающее и смыслопреобразующее воздействие (таков случай «басманного философа» Чаадаева, просидевшего в своём флигеле в статусе сумасшедшего примерно те же двадцать плодотворных лет, что и Герцен в чужих странах, – в состоянии, так сказать, внутренней вненаходимости), – хочется, но удержусь. Это уже было бы непозволительным обобщением.
Во всяком случае. внутри каждого из трёх избранных им столкновений человека и истории Кобрин прослеживает, как случай затвердевает в закономерность; наблюдает, насколько зависимы культурные и социальные макропроцессы (куда, например, будут направлены большие потоки общекультурного внимания, шутка ли!) от обстоятельств и факторов, в сущности, слепо-случайных, необязательных. И личный выбор – ещё не самый случайный из этих факторов. Есть случайности и тоньше: то, что сложилось само. Волею обстоятельств.
2018Как бы глазами Ангела истории 24 24 Послесловие к книге: Геза Сёч. Небесное и земное. Проза, драматургия / Переводы с венгерского Ю. Гусев, В. Середа; переводы стихов М. Бородицкая. – М.: Три квадрата, 2019.
Не прошло и тринадцати лет после первого перевода Гезы Сёча на русский (то было либретто мюзикла из времен венгерской революции «Liberté 1956», опубликованное в составе двухтомника венгерской драматургии в 2006-м; в новой редакции перевода мы увидим его и здесь), как перед нами – первое на русском языке собрание его прозаических и драматических текстов. Сёч – один из самых не просто ярких, а, что называется, знаковых авторов, пишущих сейчас по-венгерски. Одновременно он – одна из самых трудных и проблематичных (но тем более заметных и влиятельных) фигур в современной венгерской культуре – известен в землях, где говорят на его родном языке, уже почти сорок лет, с диссидентской молодости. Он увенчан многими наградами, и не только в двух своих отечествах: в Румынии, где родился, и в Венгрии, которой принадлежит по языку и культуре и где теперь в основном и живёт, – одна важнее другой: премией Милана Фюшта (1986), премией Тибора Дери (1992), премией Габора Бетлена (1993), премией Аттилы Йожефа (1993), премией Лаврового венка Венгрии (2013), премией Кошута (2015) – нет, это не полный перечень, – а также премией Румынского Союза писателей (2008) и большой премией Венской Европейской академии (2009). Всего этих наград у него, кажется, полтора десятка, – это уже само по себе – свидетельство того, что человек говорит и делает нечто важное для своей культурной среды. У нас он, кажется, едва прочитан – если вообще.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
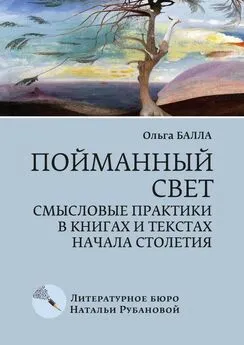
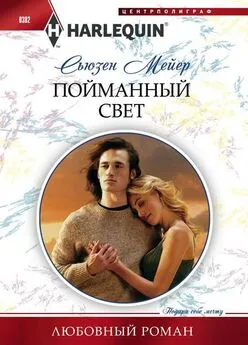
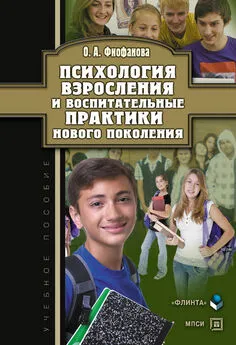


![Ольга Пашнина - Ученье – свет, неученье – смерть! [litres]](/books/1147183/olga-pashnina-uchene-svet-neuchene-smert-l.webp)