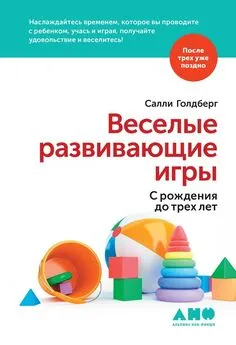Стюарт Голдберг - Мандельштам, Блок и границы мифопоэтического символизма
- Название:Мандельштам, Блок и границы мифопоэтического символизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:9785444813614
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стюарт Голдберг - Мандельштам, Блок и границы мифопоэтического символизма краткое содержание
Мандельштам, Блок и границы мифопоэтического символизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не у меня, не у тебя – у них
Вся сила окончаний родовых:
Их воздухом поющ тростник и скважист,
И с благодарностью улитки губ людских
Потянут на себя их дышащую тяжесть.
Нет имени у них. Войди в их хрящ,
И будешь ты наследником их княжеств <���…> 107
Это переписывание «как должно быть», переписывание впервые поэзии предшественника можно было бы интерпретировать и как блумовский «клинамен» («отклонение»), будь в этом хоть какой-то элемент психологического подавления. Но Мандельштам, напротив, в высшей степени осознает свое отношение к поэтическому прошлому, настоящему и будущему.
Иное отношение к прошлому согласуется с иной концептуализацией «нового» и «старого». Романтики и символисты гонятся за новым опытом. У Мандельштама высшая радость поэзии – радость узнавания архетипических ситуаций и мотивов, что достигается посредством повтора, удаленного как хронологически, так и в плане художественной реализации. Новое ви́дение, которое для английских романтиков, так же как и для русских символистов, должно преобразить мир (или, как сформулировал М. Г. Абрамс, «революция в восприятии, которая обновит его объект» 108), оказывается для Мандельштама лишь новым видением старой сцены: «…поэт не боится повторений и легко пьянеет классическим вином. <���…> Классическая поэзия – поэзия революции» (II, 225, 227).
Читательское переживание отдаленного повтора связано с феноменом интертекста. Интертекстуальная поэтика Мандельштама, уже достигшая зрелости в «Tristia», может быть понята (если несколько вольно использовать терминологию Блума) как своего рода «апофрадес», контролируемое принятие теней негрозных мертвецов, особенно учитывая созвучную образность сборника. Сильнее, пожалуй, кого бы то ни было повлиял на трансформацию мандельштамовской поэзии от «Камня» к «Tristia» Иванов. Однако реальный «дискомфорт» в отношении Иванова или какого-то другого из тех многих поэтов, чьи голоса отзываются во втором сборнике Мандельштама, обнаружить трудно (исключение – Блок). К тому же интертекстуальность в самом широком смысле слова подводит Мандельштама к ответу на проблему создания себя, на эту фундаментальную потребность всех поэтов, на которой в значительной степени и основана концепция Блума 109. В своем самом сильном (и естественном) снятии романтических категорий Мандельштам определяет «органического поэта» как корабль, который «весь <���…> сколочен из чужих досок, но у него своя стать» (III, 34) 110. Оригинальность и органичность поэта существуют в гармонии с его сложной природой и долгом перед прошлым 111. Как мы можем видеть, поэтика Мандельштама представляет собой диалектический пересмотр самого́ романтического образа мысли, который усиливает, если не порождает, тяготы влияния и муки упущенного первенства.
До сих пор мои наблюдения касались того, как Мандельштам изобретательно уклоняется от «страха влияния» на сугубо вербальном уровне. Однако как показали Дэвид М. Бетеа, Анна Ли́са Крон и Эндрю Рейнолдс, в российском контексте экстрапоэтические страхи могут затмить собой страхи поэтические. В контексте, где речевые акты влекут за собой реальные, а не только психологические опасности, поэт-как-поэт уступает место поэту-в-истории. В России столкновение с историей часто означало цензуру, порицание, изоляцию, голод, ссылку или казнь; впрочем, история также обеспечивает модели отважной внутренней свободы. Для поэта-в-истории царь или государство могут функционировать (пользуясь терминами Блума) как преграждающий путь «родитель», в напряженной борьбе с которым создается сильное стихотворение 112. Этот вид страха сыграл большую роль в развитии Мандельштама. Тени все более нетерпимого государства хватило, чтобы заставить поэта замолчать во второй половине 1920‐х гг. и создать мощный противовес его творчеству в 1930‐х 113.
В то же время потенциальные страхи поэта могут быть связаны не только с государством, но и с теми, кто жил в его тени, принял предлагаемые смертельные ставки и вышел сильным поэтом 114. В их случае прожитая поэтом жизнь становится литературным фактом. Более того, если в пушкинской традиции действительно можно наблюдать «онтологические рифмы » (Бетеа) в жизнях и между жизнями русских поэтов, то это предполагает сознательное или по крайней мере интуитивное структурирование жизни и творчества, поэтического прошлого и настоящего. Не блумовская «слепота», но нечеловеческая способность смотреть в лицо прошлому и возможному будущему, не отводя взгляда, невзирая на предчувствие насильственной и безвременной смерти, – вот что требуется от некоего Пушкина или Мандельштама 115. Учитывая ставки, «страх» перед словом, делом и судьбой предшественника вполне естественен. Однако я не вижу в «страхе» Мандельштама перед Пушкиным мучительного ощущения запоздалости и неполноценности, той раны, о которой пишет Блум и которую можно залечить лишь путем преуменьшения предшественника. Скорее Мандельштам своим обнаружением «доказательств избранничества, осуществляющих пророчества его предшественника путем глубокого пере-создания этих пророчеств в своей безошибочно опознаваемой идиоме» (Блум), выражает благоговение и любовь к Пушкину, вкушает честь участия в продолжающейся беседе поэзии, наслаждается возможностью присоединиться к ее столу, наконец-то заслужив свое место как равный 116.
В русской литературе можно наблюдать и более традиционные блумовские «страхи», впрочем находящиеся (что не удивительно) на скрещении поэтической и внепоэтической реальностей. Однажды Блок сам поделился «страхом» такого рода с Анной Ахматовой. Вот что она пишет:
…я, между прочим, упомянула, что поэт Бенедикт Лившиц жалуется на то, что он, Блок, «одним своим существованием мешает ему писать стихи». Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: «Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой» 117.
В случае Лившица именно Блок-человек мешает ему писать – «одним своим существованием». В случае с Блоком и Толстым происходит то же самое, и контраст между писателем Толстым и человеком Толстым усиливается тем фактом, что «страх» Блока не зависит от границы между прозой и поэзией.
Для Мандельштама ключевым предшественником, сочетание поэтики и личности которого неизбежно влечет за собой «блумовскую» реакцию, был Александр Блок. Как было упомянуто выше, Григорий Фрейдин писал о том, каким образом харизматические ожидания, связанные с поэтом-символистом, образцом которого был Блок, фактически исключали юного еврея Мандельштама из традиции «русского поэта» – до тех пор, пока он не смог выработать собственную поэтическую мифологию и вписать себя в эту традицию. Однако ранний Мандельштам также устанавливает новое отношение между автором и текстом, которое обходит эти ожидания. Вместо того чтобы принять на себя в более или менее нетронутом виде харизматическую роль поэта-символиста как пророка/мученика, Мандельштам во второй половине «Камня» изгоняет из своей поэзии символистского лирического героя 118. Тем самым вся поэтическая поза Мандельштама демонстрирует блумовский кеносис по отношению к поэзии Блока. Посредством отказа от явственно выраженной символистско-теургической роли в драме спасения Мандельштам развенчивает утрированную трагически-пророческую позу Блока. Более того, его итоговое, более тонкое представительство в конечном счете возвращает ему часть харизматической власти, которой он лишает символистов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
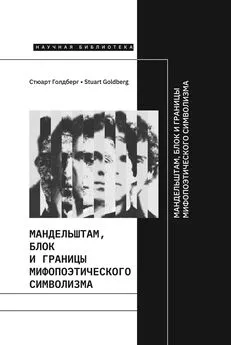
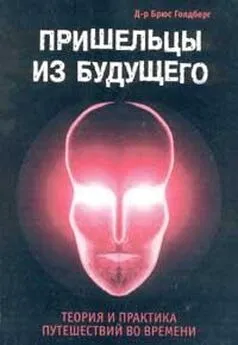

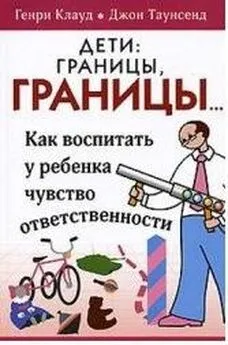
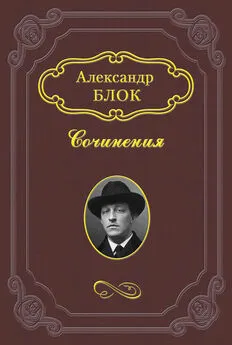

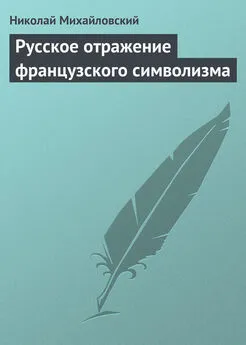

![Элхонон Голдберг - Креативный мозг [Как рождаются идеи, меняющие мир] [litres]](/books/1065923/elhonon-goldberg-kreativnyj-mozg-kak-rozhdayutsya-id.webp)