Стюарт Голдберг - Мандельштам, Блок и границы мифопоэтического символизма
- Название:Мандельштам, Блок и границы мифопоэтического символизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:9785444813614
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стюарт Голдберг - Мандельштам, Блок и границы мифопоэтического символизма краткое содержание
Мандельштам, Блок и границы мифопоэтического символизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Другой локус игры с непосредственностью и дистанцией, на сей раз взятый из поэзии Мандельштама, – «театральный» занавес из стихотворения «Я не увижу знаменитой „Федры“…» (1915), завершающего каноническое издание первой мандельштамовской книги – «Камня» (1916):
Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу, обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:
– Как эти покрывала мне постылы…
Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит:
Спадают с плеч классические шали,
Расплавленный страданьем крепнет голос,
И достигает скорбного закала
Негодованьем раскаленный слог…
Я опоздал на празднество Расина!
Вновь шелестят истлевшие афиши 69,
И слабо пахнет апельсинной коркой,
И словно из столетней летаргии
Очнувшийся сосед мне говорит:
– Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира;
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!
Когда бы грек увидел наши игры…
На первый взгляд, в этом стихотворении утверждается недоступность культурного наследия, навсегда оставшегося в прошлом 70. Переход от александрийского стиха расиновской «Федры» к белому стиху этого стихотворения тонко усиливает чувство барьера, что делает совершенный перевод из одной культурной идиомы в другую невозможным. Однако уже в первой октаве (первым это заметил Григорий Фрейдин) Мандельштам весьма наглядно пробуждает к жизни тот самый театр Расина, которого герой «не увидит» 71. Более того, в первом моностихе Федра словно почти сопереживает герою, она словно так же, как и он, страдает от осознания взаимной непроницаемости их миров.
«Как эти покрывала мне постылы!» – восклицает она. И хотя в мире расиновской трагедии ее слова относятся к тягостной роскоши, которой она окружена в своем позоре 72, в стихотворении Мандельштама упоминание этих покрывал непосредственно предшествует теме «мощной завесы», которая, «глубокими морщинами волнуя», разделяет расиновский театр и настоящее время. Слова Федры, говорят нам, обращены к рампе, т. е. к границе, составляющей самую суть театра и являющейся естественным локусом невидимого, но тяжелого занавеса. «Оперенный», подобно стреле или ласточке, стих Федры – т. е. поэзия Расина – испытывает мощную разделяющую завесу с противоположной стороны 73.
Описание занавеса дается в следующей октаве через ярко выраженное крещендо. Здесь поэт мысленно входит в пространство расиновского театра и словно оказывается на грани воплощения его в настоящем. Структура стихотворения заставляет нас ожидать, что «расплавленный страданьем <���…> голос» окажется голосом Федры. Однако героиня Расина неожиданно (но оправданно) не материализуется во втором моностихе – ее вытесняет голос поэта: «Я опоздал на празднество Расина!» Я говорю: «оправданно», потому что, в конце концов, именно разделяющая завеса «волновала» его, вызывая этот «негодованьем раскаленный слог» 74.
Хотя лирический герой и жалуется повторно, что пропустил представление, в третьей октаве еще более открыто утверждается возвращение – и даже воскрешение – расиновской эпохи в настоящем: «Вновь шелестят истлевшие афиши». В заключительном моностихе поэт вновь, кажется, настроен на строгое разграничение культурных пластов – России XX в., Франции XVII в. и Древней Греции Еврипида. Попытки Мандельштама пробить границу между эпохами наделяются статусом «игр».
Однако в следующем стихотворении, открывающем второй сборник поэта – «Tristia», все покровы подняты 75. Здесь расиновская Федра торжественно декламирует правильным александрийским стихом. Ей отвечает голос из архаичного хора, стремящийся умиротворить богоподобное черное солнце, что взошло в результате ее греха 76. При этом сохраняется осознание того факта, что занавес был и есть и что он был поднят. Это осознание служит предпосылкой, делающей возможной более «символистскую» поэтику «Tristia» в целом, в которой хронологические и пространственные границы часто стираются, а табу нарушаются 77.
Похожая логическая лазейка – слова поэта в «Пушкине и Скрябине» о том, как предсуществующее искупление мира Христом делает христианского художника свободным в процессе игры «блуждать по тропинкам мистерии» ( СС , II, 315). Эти слова позволяют поэту не отречься от тропинок мистерии – центральной темы мифопоэтического символизма – и в то же время не впасть в символистскую гордыню. (Символисты, конечно, вполне серьезно считали, что блуждают по этим тропинкам или же отклоняются от них.)
В применении к символизму игра с занавесом или вощеной бумагой, полупрозрачным и подвижным барьером, разделяющим две поэтики, означает игру с прагматикой текста, отношением текста к аудитории и внетекстовой реальности. Разнообразными способами, не последний из которых – особый род двусмысленной и почти невесомой иронии, Мандельштам задает определенную степень разделения между автором и восстановленными и возобновленными мотивами, идеями и поэтическими средствами, заимствованными из символизма. Однако это тонкое, как бумага, и всегда двусмысленное разделение часто способствует не столько осмеянию или отклонению символистских претензий, например, на трансцендентную власть слова и имени, сколько их подспудному утверждению – с новой силой, проистекающей из внедрения концептуальной сложности и здравой дозы сомнений относительно самого себя.
Мандельштам очень рано пришел к пониманию этой силы двусмысленного отрицания. Вот как завершал он свое раннее эссе о Франсуа Вийоне, этом «ангеле ворующем» 78, а вместе с ним (позднее) и свой сборник эссе «О поэзии» (1928):
«Я хорошо знаю, что я не сын ангела, венчанного диадемой звезды или другой планеты», – сказал о себе бедный парижский школьник, способный на многое ради хорошего ужина.
Такие отрицания равноценны положительной уверенности ( СС , II, 309).
ГЛАВА 2
ПРОЗОРЛИВЫЕ УКЛОНЕНИЯ ОТ ВСТРЕЧИ С БЛУМОМ
Что, если вместо того, чтобы испытывать теории Гарольда Блума о поэтическом влиянии на применимость к мандельштамовской поэзии, попытаться использовать произведения Мандельштама и других русских поэтов рубежа XIX–XX вв. для проверки самого Блума – поставить под вопрос неизбежность того, что Блум считает универсальными механизмами авторства и литературной эволюции? 79Рассмотрев этих поэтов, а в особенности Мандельштама, мы можем увидеть, что поднимаемые Блумом проблемы реальны и действительно важны для русских поэтов, но при этом они не скрыты от взгляда, как утверждает Блум, не выражены лишь на уровне фрейдовских вытеснения и компенсации. Более того, мы увидим, что Мандельштам демонстрирует ряд убедительных стратегий не только по обходу этих страхов, но и по устранению их в таком плане, который представляет собой диалектический пересмотр теорий Блума.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
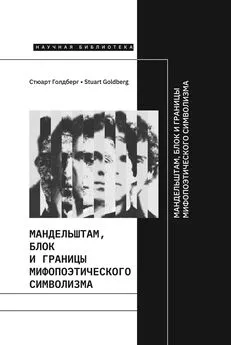
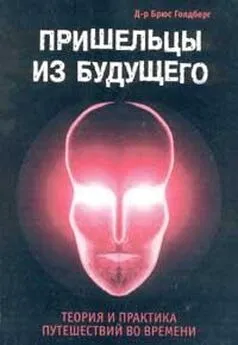
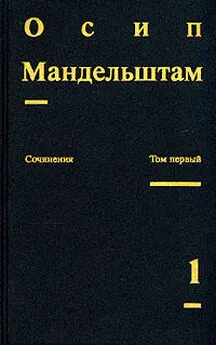



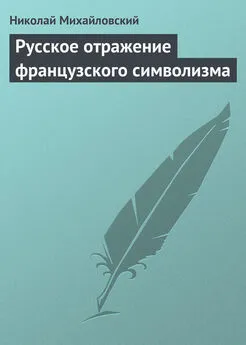
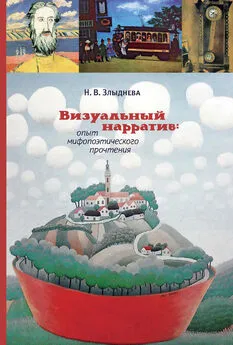
![Элхонон Голдберг - Креативный мозг [Как рождаются идеи, меняющие мир] [litres]](/books/1065923/elhonon-goldberg-kreativnyj-mozg-kak-rozhdayutsya-id.webp)

