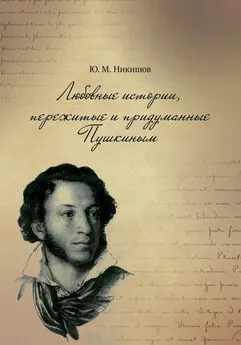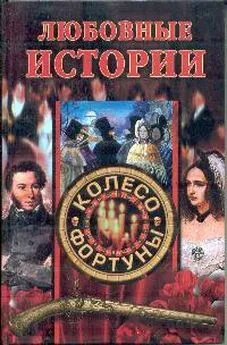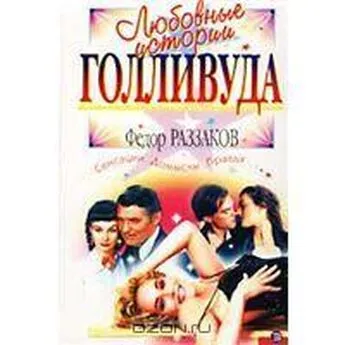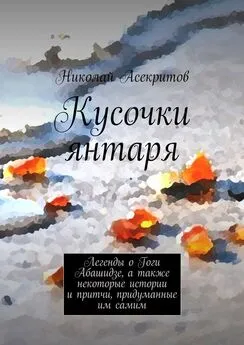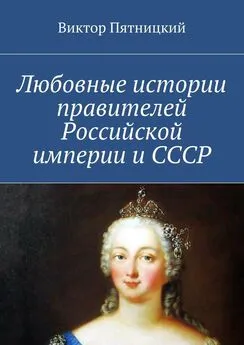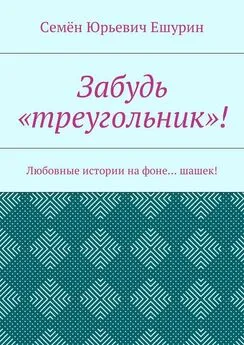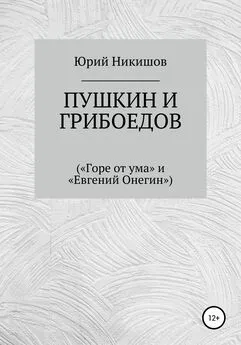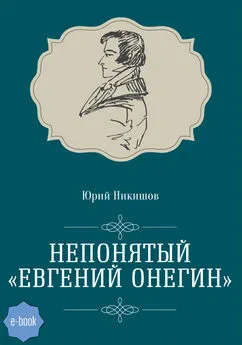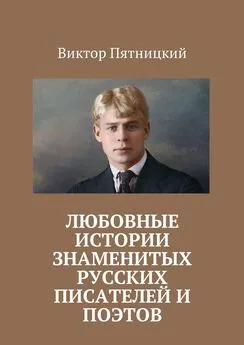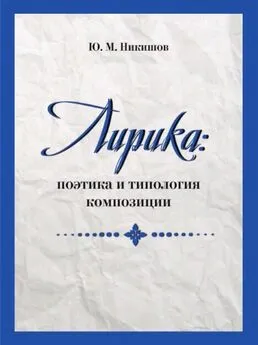Юрий Никишов - Любовные истории, пережитые и придуманные Пушкиным
- Название:Любовные истории, пережитые и придуманные Пушкиным
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:978-5-9965-0352-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Никишов - Любовные истории, пережитые и придуманные Пушкиным краткое содержание
Любовные истории, пережитые и придуманные Пушкиным - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ключевое понятие, которое в сущности предопределяет направление всех остальных поисков, представляет собой цель эпикурейства, – счастье. Слово «счастье» включается в активный словарь лицейской лирики (понятно, что сохраняется в нем и дальше). У Пушкина нет философски емкой формулы счастья: есть указания на состояние человека (со знаками плюс и минус), есть отсылки к источникам, объясняющим причину того и другого состояния; дорог к счастью оказывается много. Определение понятия не входит в творческую задачу поэта; Пушкину хватает интуитивного представления о том, что такое счастье. Нам без определений и обобщений не обойтись.
Что значит счастье в обиходе лицейской лирики? Оно включает такой оттенок: удовлетворение достижением поставленной цели. Еще реальное слагаемое (вполне в духе эпикурейства): высокая степень наслажденья. Но любопытно: подобными представлениями о счастье поэт наделяет не себя, а адресатов и персонажей лирики: «Панкратий жил счастлив в уединенье…» («Монах»); пастух следует совету Сатира: «И в объятиях Дориды / Снова счастьем насладись!» («Блаженство»); Батюшков, по представлениям Пушкина, счастлив и как поэт – «парнасский счастливый ленивец», и как любовник: «Слезами счастья грудь прекрасной, / Счастливец милый, орошай» («К Батюшкову»); «Ты счастлив, друг сердечный: / В спокойствии златом / Течет твой век беспечный…» («К Пущину ‹4 мая›»); счастлив «философ благодарный» в дружеском общении, «когда минуты мчатся / Веселья на крылах…» («Послание к Галичу»); завет Анакреона – «Счастье резвое лови» («Гроб Анакреона»). Но подобные представления о счастье отданы «я» поэта лишь при нарочитом несовпадении биографического и условно-литературного опыта. Так, в «Монахе» возникает замечание в скобках: «я молод, не пострижен / И счастием нимало не обижен». Но реальному автору – всего четырнадцать лет, и счастьем, на которое намекает и которым якобы «не обижен», он еще просто-напросто не наделен!
В чем же дело? В системе эпикурейства краеугольное основание – любовь. В «днях любви и счастья» одно и другое нераздельно. Эту отправную посылку юному поэту трудно склонить к своему опыту. О каком блаженстве в любви вести речь, если любви еще нет, если томление ожидания больше мучительно, чем отрадно, если упоение фантазией кончается горечью пробуждения? Даже единственный реальный эпизод жизни сердца в Лицее, увлечение Бакуниной, дает жестокую раскладку: 18 часов мучительного ожидания – и счастье встречи на 5 минут. Как темпераментному поэту с таким раскладом мириться?
Личное признание в счастье безоговорочно делается только в случае, когда счастливое мгновение остановлено навечно – если живописец выполнит, как надо, заказ:
Рукой любовника счастливой
Внизу я имя подпишу.
В иных же случаях неизбежны оговорки: «Увы! я счастлив был во сне…» («Послание к Юдину»). И даже больше: любовь и счастье, так естественно соединяемые применительно к чужому опыту, в личном сознании Пушкина предстают как альтернативы. Собственно, с этого и начинается.
Так и мне узнать случилось,
Что за птица Купидон;
Сердце страстное пленилось;
Признаюсь – и я влюблен!
Пролетело счастья время,
Как, любви не зная бремя,
Я живал да попевал…
Поэт принимает решение, которое, оказывается, выполнить невозможно, но сам порыв представляет интерес:
«Добрый путь! Прости, любовь!
За богинею слепою,
Не за Хлоей, полечу,
Счастье, счастье ухвачу!»
Поэт вынужден задать вопрос: почто «любовию младой / Напрасно пламенею?» («Городок»).
Юный Пушкин проявляет высокую принципиальность. Он не завистлив и позволяет своим героям искать и находить счастье в любви. «Чужой» опыт очень нужен ему самому, ибо опережающим образом проигрывается модель поведения, вырабатывается его кодекс чести. Но поэт сам не предстает счастливчиком, а если и бывает счастлив, то не скрывает – лишь в мечтах.
Вот почему слагаемые счастья – удовлетворение достигнутой целью и высокая степень наслажденья – воплощаются как опыт героев, но не как личный опыт (с одной оговоркой: Пушкин получает безусловное удовлетворение как поэт). Под этим углом зрения находит объяснение странное восклицание:
Блажен, кто в низкий свой шалаш
В мольбах не просит Счастья!
Но все логично, если понимать счастье как наслажденье.
Если же счастье воспринимается не как синоним любви, но альтернатива ей, то возникает и иное содержательное наполнение этого понятия – не как удовлетворение и наслаждение. Теперь счастье понимается как внутреннее состояние души человека, его лад с самим собой и с миром. В этом случае счастье даже стесняется себя и находит синоним – покой, тоже употребительное слово в творчестве Пушкина: «Блажен, кто веселится / В покое, без забот…» («Городок»); «Где ты, ленивец мой? / Любовник наслажденья! / Ужель уединенья / Не мил тебе покой?» («Послание к Галичу»); «Люблю я праздность и покой, / И мне досуг совсем не бремя…» («Моему Аристарху»); «Теперь, когда в покое лень…» («Послание к Юдину»); «Приди, о лень! приди в мою пустыню. / Тебя зовут прохлада и покой…» («Сон»); «Спешите же под сельский мирный кров. / Там можно жить и праздно и беспечно. / Там прямо рай…» (там же).
Слагаемых умиротворенного состояния человеческого духа выявляется много, а их дополняют и ценности переменные, настроенческие, временные. Набор переменных ценностей, которые то утверждаются, то иронически понижаются, широк: заслуживает внимания всё, на что откликается пушкинская душа. Другой вопрос, что степень категоричности утверждения тех или иных ценностей тоже необходимо учитывать.
Можно ли говорить о системе, если она так сложна и противоречива? Можно. А если она сложна и противоречива, то это всего лишь ее объективные свойства. И, видимо, правильнее говорить не о противоречиях системы, но о том, что эта система представляет собой комплекс оппозиций: уединение/свет, село/город, одиночество/дружество, тишина/шум, покой/суета, безвестность/слава. Выделим и еще некоторые.
Пушкин настойчиво утверждает приоритет веселья (веселости): «Веселье! будь до гроба / Сопутник верный наш…» («К Пущину (4 мая)»). Однако даже этому столь непререкаемо утверждаемому принципу находится оппозиция.
Страдать – есть смертного удел.
Воспоминания в Царском Селе
Но всё ли, милый друг,
Быть счастья в упоенье?
И в грусти томный дух
Находит наслажденье…
Веселью противостоят грусть, страдание, утраты – и насколько это раздвигает мир Пушкина, где возникают и контрастные краски, и полутона! Это – живая жизнь, вдыхаемая полной грудью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: