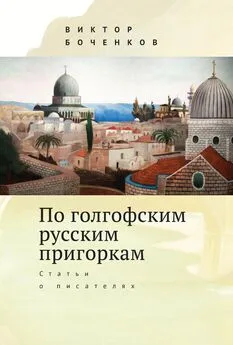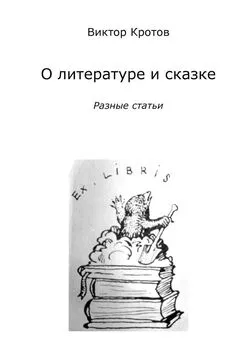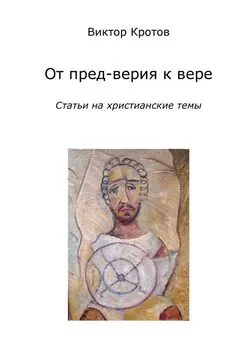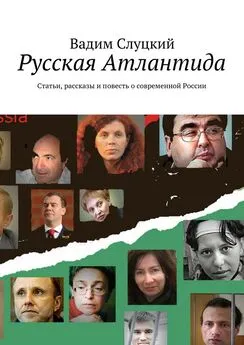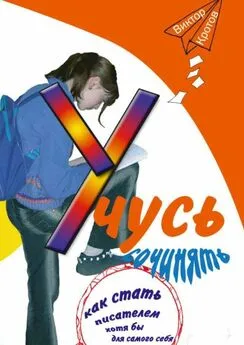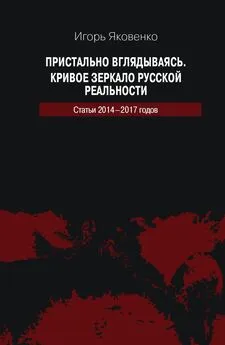Виктор Боченков - По голгофским русским пригоркам. Статьи о писателях
- Название:По голгофским русским пригоркам. Статьи о писателях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00165-016-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Боченков - По голгофским русским пригоркам. Статьи о писателях краткое содержание
По голгофским русским пригоркам. Статьи о писателях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что общего между французским сюринтендантом, российским императором и забытым историком конца XVIII века? Это, мне кажется, их государственное мышление, государственность как цементирующая идея всего общественного устройства, под которой прошёл такой непростой и такой великий восемнадцатый век. Это мысль о предопределённости судеб страны свыше, о монаршей воле, которой движет, управляет или направляет – как угодно – Божия воля, и потому всё великое свершает именно личность («мысль народная» явится позже). Монарх – олицетворение Бога на земле. Отдельный герой вроде Козьмы Минина – лишь орудие Божиего промысла, «чрез которое, – как говорит о нём Голиков, – Россия оживотворилась и воскресла». «Наш полубог», так дедушка отзывался о Петре не случайно… Всё, что делается и происходит в стране, делается и происходит исключительно в интересах государства, во имя его мощи, силы, нерасторжимости. Оба автора – убежденные сторонники и защитники монархии, и иначе не представляют государства. Бог, царь, народ, вот три звена прочной государственной цепи. Одного нет, всё распалось. Монархия движется идеей служения. Но мама писателя, думаю, постаралась подобрать для сына более простые слова, далёкие от социологии термины…
Это детское воспоминание писатель привёл в автобиографии, которая в двух вариантах помещена в последнем советском собрании его сочинений (1976 год) на «задворках» первого тома в качестве приложения. Набрана скромно маленьким шрифтом. Между тем здесь в нескольких строках обозначены два очень важных момента. Первый – влияние и роль старших в определении круга детского чтения и интересов вообще. Историческое сознание ребёнка начинает формироваться ещё до школы, именно в семье. Второй момент – содержательная сторона произведений, рекомендуемых для детского чтения, прежде всего это в данном случае книги, из которых ребёнок получил бы представление о: 1) своих национальных героях; 2) об истории отечества и тех событиях, которыми ему надлежит гордиться; 3) о национальных героях и истории других стран.
Представление о своих национальных героях, подлинных гениях, знание истории отечества и любовь к ней – одна из составляющих культурного ядра нации, что, как видим, превосходно понимал дедушка писателя, не зная, разумеется, таких определений. И о том же самом спустя столетие очень точно выскажется Иван Ильин: «Патриотизм может жить и будет жить лишь в той душе, для которой есть на земле нечто священное ; которая живым опытом (может быть, вполне “иррациональным”) испытала объективное и безусловное достоинство этого священного – и узнала его в святынях своего народа . Такой человек реально знает, что любимое им есть нечто прекрасное перед лицом Божиим ; что оно живет в душе его народа и творится в ней; и огонь любви загорается в таком человеке от одного простого, но подлинного касания к этому прекрасному. Найти родину – значит реально испытать это касание и унести в душе загоревшийся огонь этого чувства…» (курсив И.А. Ильина).
Это «простое, но подлинное касание» началось для Мельникова с непонятных слов о Голикове и Сюлли; искрой того восторга перед этими именами – знаками национального величия – постепенно, подспудно поддерживалось писательское вдохновение.
Хочу привести ещё одно высказывание русского философа из той же его работы, «Путь духовного обновления». Глава седьмая «О национализме», параграф второй «О национальном воспитании». Ильин говорит, что ребёнка следует обогащать духовными сокровищами, выделяя десять, среди них – историю. О ней он пишет так: «Русский ребёнок должен с самого начала почувствовать и понять, что он славянин, сын великого славянского племени и в то же время сын великого русского народа, имеющего за собою величавую и трагическую историю, перенёсшего великие страдания и крушения и выходившего из них не раз к подъёму и расцвету. Необходимо пробудить в ребёнке уверенность, что история русского народа есть живая сокровищница, источник живого научения мудрости и силы». Кажется, именно к этому и стремился умирающий дедушка Мельникова, советуя читать Голикова.
У них, разделённых многими десятилетиями, было одинаковое осознание важности исторической памяти. « История учит духовному преемству и сыновней верности ; а историк, становясь между прошедшим и будущим своего народа, должен сам видеть его судьбу, разуметь его путь, любить его и верить в его призвание. Только тогда он сможет быть истинным национальным воспитателем» (курсив И.А. Ильина). История стала для Мельникова одним из «сокровищ», и неспроста он не только её полюбил сызмальства, но изучал, открывал архивы, посвятил ей жизнь. Он рано понял значимость духовной преемственности для становления, развития, в конце концов для выживания народа.
Ничто не должно уходить в небытие. Ни события, ни человеческая личность, ни слово. В каждом слове есть особое «историческое» семечко. Неспроста у писателя такое внимание к устаревшим и редким словам: стомах (желудок), послух (свидетель), летось (прошлым годом), бударка (название лодки или небольшого судна), дельщик (человек, способный к работе), реюшка (парусная шлюпка), изурочить (сглазить), шиповка (артель, где куют гвозди для судов), апостольская скатерть – название надутого ветром паруса на языке волжских бурлаков, Стекольно (Стокгольм, отсюда Стеклянное царство – Швеция)… За всеми ними – минувшие годы, ушедшие люди. Быт, вещь, мир, напрямую связанные с человеческим сознанием и трудом. Слово – это нить, которая ведет в прошлое, к его смыслам и ценностям бытия. Слово и язык – основа мышления, поэтому писатель – всегда мыслитель. Изменить язык значит изменить мышление.
И тут необходимо отметить глубинное мельниковское знание собственной семейной «маленькой» истории. Корни своего рода он проследил до семнадцатого века. Гордился родовой иконой времён Ивана Грозного (не сохранилась, сгорела во время нашумевших петербургских пожаров 1862 года). Гордился тем, что он русский.
Не думалось ли вам, если случилось прочесть, что его «Бабушкины россказни» – повесть глубинно философская, ибо её тема – живая историческая преемственность, историческое свидетельство и его роль в эстафете поколений? Для Мельникова всегда была важна осязаемая встреча с прошлым – соприкосновение, ощущение, запах его и вкус, его способность перевернуть, «перенастроить» сознание. Отсюда увлечение поиском старинных документов и книг. Мне нравится это сравнение современного немецкого философа Курта Хюбнера из работы «Нация» 19 19 Полное название: «Нация: От забвения к возрождению».
: архивные документы – плоть истории. Где плоть, там и дух. Всё связано. Это раз. Истории нет без источника. Это два. Для Мельникова история – это ещё путешествие по русским историческим местам. Например, по маршруту Ивана Грозного, который шёл воевать Казань. «Летом проехал весь путь Иоанна Грозного от Мурома до Казани, нанёс на карту все курганы, оставшиеся на месте его станов, разрывал некоторые, собрал всевозможные предания, поверья, песни о Казанском походе, осмотрел церкви, Грозным построенные, видал в семействах, происходящих от царских вожатых, жалованные иконы, списки с грамот» (письмо М.П. Погодину) 20 20 Мельников П.И . Письмо М.П. Погодину от 4 февраля 1852 г. // Сборник в память П.И. Мельникова (Андрея Печерского). Действия нижегородской ученой архивной комиссии. Нижний Новгород, 1910. Т. IX. Ч. 1. С. 161.
. Или взять путевые заметки по дороге из Тамбовской губернии в Сибирь, самое первое его опубликованное произведение, где история и современность неразрывно переплетены. Мельникову особенно дороги свидетельства очевидцев.
Интервал:
Закладка: