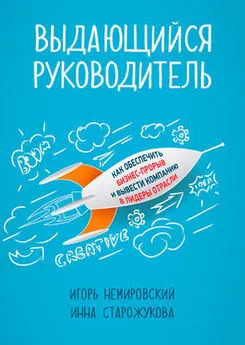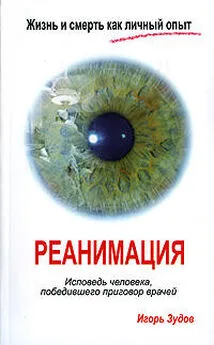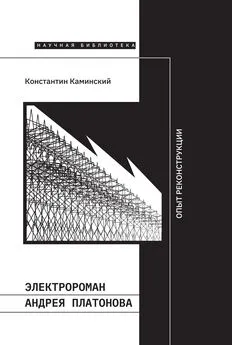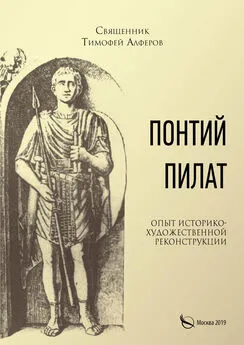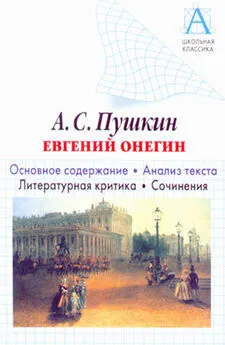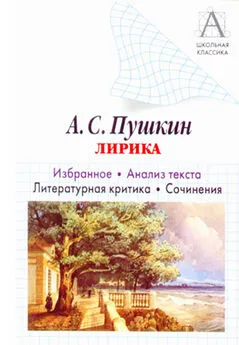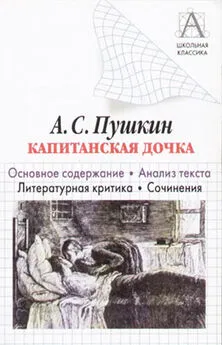Игорь Немировский - Пушкин – либертен и пророк: Опыт реконструкции публичной биографии
- Название:Пушкин – либертен и пророк: Опыт реконструкции публичной биографии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0879-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Немировский - Пушкин – либертен и пророк: Опыт реконструкции публичной биографии краткое содержание
Пушкин – либертен и пророк: Опыт реконструкции публичной биографии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В книге подробно рассказывается об участии Пушкина в собраниях «Зеленой лампы». Анненков определяет это дружеское общество как имеющее «оргиаческий характер» и не без сарказма противопоставляет его декабристскому движению:
когда в 1825 г. произошла поверка направлений, усвоенных различными дозволенными и недозволенными обществами, невинный , т. е. оргиаческий характер «Зеленой лампы» обнаружился тотчас же и послужил ей оправданием [37] Там же. С. 57. Примеч. 1.
.
Двойственность поведения Пушкина, сочетавшего общение с «аристократами разгула» (так Анненков определил членов «Зеленой лампы») и глубокий интерес к деятельности «Союза Благоденствия» (1818 – 1821), составляет, на наш взгляд, сильнейшую методологическую сторону второй пушкинской биографии Анненкова [38] См.: Там же. С. 60 – 62.
. Противопоставляются профанирующее социальные и религиозные нормы поведение Пушкина в рамках «Зеленой лампы» и сочувствие поэта к этической «пуританской» программе Союза Благоденствия. Разрешения, нейтрализации этой противоречивой двойственности пушкинской личности в рамках своего исследования Анненков не дает, притом что на уровне автоманифестации стремится к этому. В новой книге о Пушкине Анненков формулировал свою творческую задачу иначе, чем в «Материалах». Теперь он видел ее не в противопоставлении двух половин жизни поэта, а в преодолении противоречий в оценках его личности:
Если нам удастся одинаково устранить два противоположных воззрения на Пушкина, существующие доныне в большинстве нашего общества, из которых одно представляет его себе прототипом демонической натуры, не признававшей ничего святого на земле, кроме своих личных или авторских интересов, a другое, наоборот, целиком переносит на него самого всю нежность, свежесть и задушевность его лирических произведений, считая человека и поэта за одно и то же духовное лицо, – то цель очерка будет вполне достигнута [39] Анненков П . Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. 1799 – 1826 гг. СПб., 1874. С. IV.
.
Указывая на неправомерность отождествления Пушкина-«человека» с Пушкиным-«поэтом», Анненков мимоходом задевает «второго пушкиниста» и своего извечного конкурента, П. И. Бартенева, однако главный смысл поставленной им перед самим собой творческой задачи заключался в нейтрализации противоречивого отношения к Пушкину, сложившегося в русском обществе к началу семидесятых годов [40] Сандомирская В. Б., Городецкий Б. П . 50 – 60-е годы // Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л.: Наука, 1966. С. 50 – 77.
, – сам Анненков в значительной степени его разделял.
К этому времени споры о том, был ли профетизм Пушкина выражением его личных отношений с императором или, напротив, выражал скорбь общества по поводу поражения декабристов, сменился вопросом о том, а был ли вообще Пушкин «пророком», то есть был ли он достоин того, чтобы выражать национальный дух. В новую эпоху современники не стеснялись в высказывании самых серьезных сомнений в морали Пушкина. Крайним, но далеко не единственным выражением подобной позиции стали воспоминания лицейского однокашника поэта М. А. Корфа, сделавшего блестящую карьеру при Николае I. По мнению бывшего лицеиста, в Пушкине
не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств; он полагал даже какое-то хвастовство в высшем цинизме по этим предметам: злые насмешки, часто в самых отвратительных картинах, над всеми религиозными верованиями и обрядами, над уважением к родителям, над всеми связями общественными и семейными… ‹…›…Пушкин представлял тип самого грязного разврата [41] Корф М. А . Записка о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 104.
.
Корф не был одинок. Еще более резко о Пушкине отозвался человек из совсем другого, не правительственного лагеря, декабрист И. И. Горбачевский. При этом, если Корф обвинял Пушкина в аморальности потому, что поэт не был верен императору и отвечал на его милости черной неблагодарностью, Горбачевский упрекал Пушкина в сервилизме. Оба сходились в том, что Пушкин не может быть выразителем русского национального духа:
…Он (Пушкин. – И. Н. ) сам при смерти это подтвердил, сказавши Жуковскому: «Скажи ему (императору Николаю I. – И. Н. ), если бы не это, я бы был весь его». Что это такое? И это сказал народный поэт, которым именем все аристократы и подлипалы так его называют. Прочти со вниманием об их воспитании в лицее; разве из такой почвы вырастают народные поэты, республиканцы и патриоты? Такая ли наша жизнь в молодости была, как их? Терпели ли они те нужды, то унижение, те лишения, тот голод и холод, что мы терпели? А посмотри их нравственную сторону. Мне рассказывали Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин про Пушкина такие на юге проделки, что уши и теперь краснеют [42] Письмо И. И. Горбачевского к М. А. Бестужеву от 12 июня 1861 года. Цит. по: Эйдельман Н. Я . Пушкин и декабристы. М., 1979. С. 148. Здесь отзыв Горбачевского приведен по автографу, находящемуся в Отделе рукописей Российской Национальной библиотеки: Ф. 69 (Бестужевых). № 30. Л. 16 – 17.
.
Резкость критических оценок Пушкина, распространенных в шестидесятые годы, в конце семидесятых сменилась волной обожания. Общество готовилось к открытию памятника Пушкину в Москве. Деньги на него собирались по подписке, и общий характер торжеств имел не официальный, а народный и даже, в определенной степени, оппозиционный характер. В этой атмосфере в год открытия памятника Пушкину появляется итоговая книга Анненкова «Общественные идеалы Пушкина» (1880). Цель ее была отвести от Пушкина упреки в аморализме и беспринципности и показать, что у поэта имелась собственная система общественных воззрений.
Важный акцент книги состоял в том, что эта система не имела ничего общего с правительственной идеологией:
А. С. Пушкин точно так же имел свою домашнюю, секретную теорию разумного гражданского существования, как и учители его – Карамзин и Жуковский, но с тою разницей, что последние пользовались возможностью доводить свои теории до сведения официального мира, между тем как Пушкинские теории, которые он обдумывал долгое время, должны были остаться при нем одном… [43] Анненков П. В. Общественные идеалы А. С. Пушкина // Анненков П. В. Пушкин в Александровскую эпоху. Минск: Лимариус, 1998. С. 232 – 233.
Чтобы усилить противостояние между «теорией разумного гражданского существования» Пушкина и официальной идеологией, Анненков постоянно подчеркивает, что между Пушкиным и императором стоял шеф жандармов А. Х. Бенкендорф [44] «Генерал Бенкендорф, заведовавший ходом и направлением общественной мысли и никогда особенно не доверявший благонадежности писателей и журналистов, не нашел и теперь достаточных причин для какого-либо изменения цензурных обычаев времени… ‹…› К этому присоединилось у него закоренелое убеждение, что все, слишком возвышенные цели, поставляемые себе русскими людьми, и все крупные их замыслы, выходящие за черту общего уровня дел и понятий, служат им только удобным способом скрывать тенденциозные намерения весьма сомнительного свойства. Он и не замедлил обнаружить вскоре эту часть своих убеждений самым недвусмысленным образом» (Там же. С. 262).
.
Интервал:
Закладка:
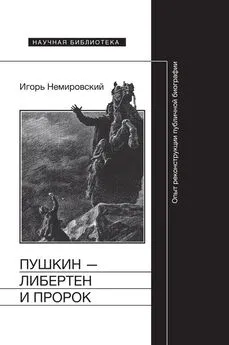

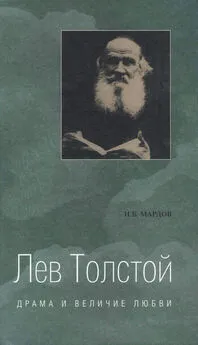
![Игорь Немировский - Поиск Патриарха [СИ]](/books/1080664/igor-nemirovskij-poisk-patriarha-si.webp)