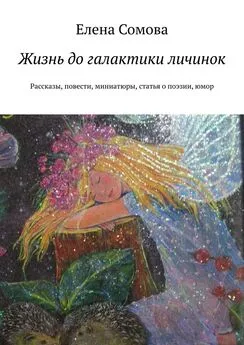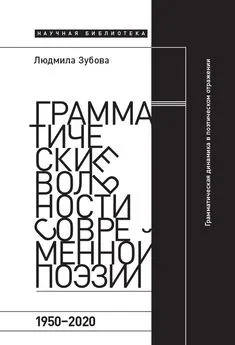Людмила Зубова - Языки современной поэзии
- Название:Языки современной поэзии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-791-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Зубова - Языки современной поэзии краткое содержание
В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.
Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.
Языки современной поэзии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Наблюдения над поэтикой Лосева завершим анализом стихотворения, которое представляет собой рассуждение на тему палиндромической зеркальности русского местоимения я [ja] и английского I [aj]:
ИГРА СЛОВ С ПЯТНОМ СВЕТА
I
Я не знал, что умирает. Знали руки, ноги,
внутренние органы,
все уставшие поддерживать жизнь клетки тела.
Знало даже
сознание, но сознание по-настоящему никогда
ничего не знает,
оно только умеет логизировать:
поскольку сердце, желудок, большой палец правой ноги
и проч. подают какие-то сигналы,
можно сделать вывод, что жизнь данного тела
близится к концу.
Однако все части тела,
в том числе и производящий сознание мозг,
были не-я.
II
Я нематериально, не связано непосредственно
с телом и поэтому не может ощущать умирания и
верить в смерть. Я —
перемещающаяся мимолетная встреча разных импульсов
мозга, яркая световая
точка в пересечении лучей.
(Или тусклая.)
Голограмма? Нет, точка, пятно
света, потому что не имеет своего образа. Я
нематериально, не имеет своего образа, как невидимый
звук j в слове/букве Я.
Заврался.
Отчего ж невидимый? В кириллице наклонная палочка
в Я (вертикальная в Ю) и есть j.
Палочка, приставленная к альфе, — Я.
Палочка, приставленная к ОУ, — Ю.
(Две потерянные над этими йотами точки ушли в ё.)
III
Что, сынку, помогла тебя твоя метафора? Нет,
не помогла. Метафора всегда заводит в болото.
Но другого Сусанина на нас нет.
IV
«Я, я, я»
ужаснувшегося Ходасевича — jajaja — визг:
айайай!
V
Как в школе.
«Спорим, что не сможешь сказать „дапис“ десять раз
подряд и не сбиться».
Как дурак доказываю, что могу.
«Александра Марковна, а Лифшиц ругается!»
VI
«Серожелтого, полуседого…»
Из зеркала на поэта смотрят звуки
уже еле шелестящего имени —
как тут не завизжать от тоски: ай-ай-ай!
Aй — это английское я, I, — вот она, вертикаль-то.
Только здесь α невидима.
Русское я — йа.
Английское I — ай.
йа / ай.
ja / aj.
Желая вы —
разить себя, человек выдавливает самый нутряной
из звуков: jjjjjj.
После такого усилия как не вздохнуть самым легким
из звуков: аааааа.
А можно наоборот: легкое а закрыть внутренним j.
Русское я открывается наружу,
английское I замыкается в себя.
Вот мы и снова вляпались в чушь.
VII
Лучше вернуться к неверному
световому пятну.
Попляшет, подрожит ни на чем не держащееся,
и нет его. Совсем нет?
А отпечаток света на сетчатке другого?
Другой закроет веки, и вот он,
тот свет я.
Откроет, еще раз закроет,
тот свет слабее.
Проморгается — и нет
отпечатка.
Ничего нет, кроме темноты. А в ней,
уж точно, ни альфы, ни йота.
Только слоги тем, но и ты [71] Лосев, 2000-а: 18–20.
.
Всё это стихотворение пронизано образами общего и различного в звучании, начертании и смысле русского и английского местоимений 1-го лица.
В этом нетипичном для Лосева верлибре, исследующем потерю сознания как потерю ощущения собственного «я», говорящем об умирании как о разрушении речи, важно, что замена русского местоимения 1-го лица английским осуществляется движением языка вспять. Здесь имеется прямая отсылка к стихотворению Ходасевича «Перед зеркалом» (1924):
Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
<���…>
Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами —
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла [72] Ходасевич, 1989: 174.
.
Образ пугающего зеркала со всей его символикой инобытия-небытия, заданный Ходасевичем, Лосев развивает образом звукового палиндрома. Метафорой инобытия-смерти в народной культуре является и принадлежность персонажей чужим странам, переход на чужой язык.
Обратим внимание на то, что у Ходасевича в этом тексте есть строка А глядишь — заплутался в пустыне, которая откликается у Лосева мотивом телесного развоплощения, заданным Пушкиным в стихотворении «Пророк». У Пушкина развоплощение перед духовным рождением сопровождается невнятным звучанием, утратой языка. Духовной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился, / И шестикрылый серафим / На перепутье мне явился <���…> Моих ушей коснулся он, / И их наполнил шум и звон <���… > И он к устам моим приник, / И вырвал грешный мой язык, / И празднословный и лукавый <���… > Как труп в пустыне я лежал, / И Бога глас ко мне воззвал [73] Пушкин, 1977-а: 304. В тот же сборник, что и стихотворение «Игра слов с пятном света» (Лосев, 2000-а), входит текст «Как труп в пустыне. Июнь 1959 года». В нем Лосев говорит о том, как вместо армейской присяги, вменяемой в обязанность новобранцам, он принял собственную присягу не служить злу.
.
У Лосева распад языка словесно обозначен в первой же строке стихотворения. Образ распада основан и на аграмматизме словосочетания, и на раздвоении смысла. Слова Я не знал, что умирает можно понимать по-разному. При одном толковании что союзное слово, и тогда фраза означает ‘я не знал, что именно, какая часть тела умирает’. Другое понимание может быть основано на восприятии слова что как союза, и тогда фраза предстает грамматически неправильной по отношению к нормативной конструкции я не знал, что умираю (ср. строку Лосева Я сидит, скучает из стихотворения «Песня» [74] Лосев, 1999-а: 65.
).
Развоплощение представлено и переключением грамматического рода. Сначала Лосев замещает Я-субъект субъектом-существительным среднего рода, естественно согласованным с предикатом в среднем роде: знало даже сознание. В начале второй строфы средний род появляется при субстантивном употреблении слова Я. Я нематериально, далее предикатом местоимения я в автометафоре становится субъект женского рода: Я — <���…> встреча <���… > точка <���…> голограмма.
Образом разрушения языка, знаком умирания в тексте оказываются и канцеляризмы: поскольку; данного тела; в том числе; производящий сознание мозг.
Распад языка изображен и противоречивыми словосочетаниями — например, оксюмороном в заглавии текста пятно света, синэстезией (объединением разнородных ощущений) невидимый звук. Этот алогизм далее развит фразой Из зеркала на поэта смотрят звуки уже еле шелестящего имени.
Строка Две потерянные над этими йотами точки ушли в ё намекает на матерную лексику, которая тоже может быть одним из знаков разрушения языка и личности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:





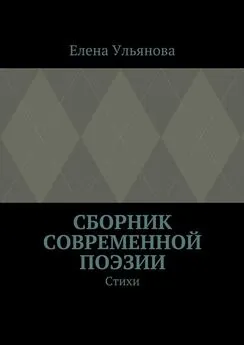
![Людмила Зубова - Грамматические вольности современной поэзии, 1950-2020 [калибрятина]](/books/1147949/lyudmila-zubova-grammaticheskie-volnosti-sovremennoj-poezii-1950-2020-kalibryatina.webp)