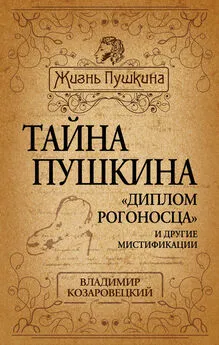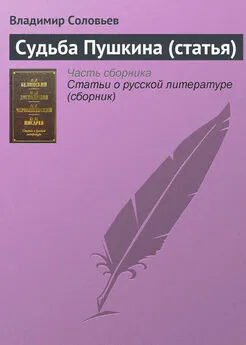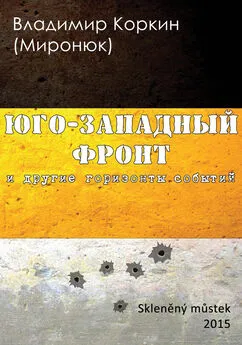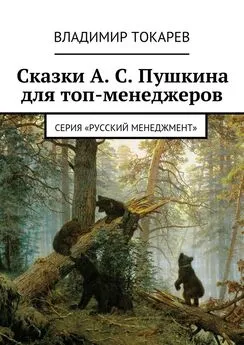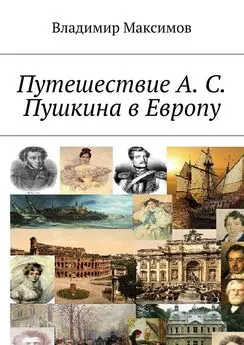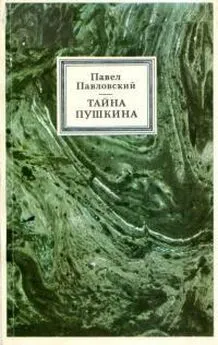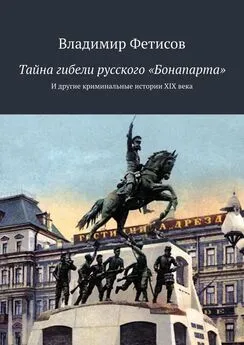Владимир Козаровецкий - Тайна Пушкина. «Диплом рогоносца» и другие мистификации
- Название:Тайна Пушкина. «Диплом рогоносца» и другие мистификации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Козаровецкий - Тайна Пушкина. «Диплом рогоносца» и другие мистификации краткое содержание
Книга раскрывает мистификаторский талант Пушкина, благодаря которому поэту удавалось оберегать свои честь и достоинство. В результате наши представления о его происхождении и смерти, многих поступках и фразах, о содержании его главных произведений до сих пор держатся на инициированных им самим мифах. Книга построена на документально подтвержденных фактах, на произведениях и переписке Пушкина и свидетельствах современников поэта. Как и во всем, чего бы он ни касался, Пушкин был гением и в своих мистификациях.
Тайна Пушкина. «Диплом рогоносца» и другие мистификации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Глава 9 «С Пушкиным на дружеской ноге»
У меня легкость необыкновенная в мыслях.
Н.Гоголь, «Ревизор» (III, 6)
I
10 мая 1834 года Пушкин записывает в дневнике:
«Несколько дней тому получил я от Жуковского записочку из Царского Села. Он уведомлял меня, что какое-то письмо мое ходит по городу и что государь об нем ему говорил. Я вообразил, что дело идет о скверных стихах, исполненных отвратительного похабства и которые публика благосклонно приписала мне. Но вышло не то. Московская почта распечатала письмо, писанное мною Наталье Николаевне (от 20 – 22 апреля. – В.К. ) и нашед в нем отчет о присяге великого князя, писанный, видно, слогом не официальным, донесла обо всем полиции. Полиция, не разобрав смысла, представила письмо государю, который сгоряча также его не понял. К счастью, письмо показано было Жуковскому, который и объяснил его. Все успокоились. Государю не угодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью, – но я могу быть подданным, даже рабом, – но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако, какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства ! Полиция распечатывает письма мужа к жене, и приносит их читать к царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться – и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! Что ни говори, мудрено быть самодержавным».
Разумеется, Пушкин знал, что его почта перлюстрируется (в письмах он с момента высылки в Михайловское всегда делал на это поправку), но доказать ничего не мог; а тут ему, можно сказать, дали в руки доказательство – и он им воспользовался в полной мере. Сквозь запись рвется сдерживаемое ироничным стилем, характерным и для всего «Дневника», бешенство Пушкина по поводу этой наглой беспардонности власти, его пассаж по поводу Николая I на редкость резок и откровенен – на что ему полное право давало обнародование абсолютно безнравственного поведения всех участников этой истории – почт-директора Булгакова, Бенкендорфа и царя, – а его скобка о царской благовоспитанности и честности выглядит прямо-таки издевательской. Он отдавал себе отчет, что после смерти каждая строчка его архива будет тщательно рассмотрена – и все же в этом случае позволил себе по отношению к царю тон, какого не позволял ни в каком другом месте «Дневника» или переписки: за ним стояла абсолютная правота.
II
Однако же позволю себе усомниться в том, что «письмо… ходило по городу»; скорее всего, Пушкин вложил в уста Жуковского эту фразу для поддержки и оправдания тона своей записи и своих дальнейших действий – а они последовали. Прежде всего мистификатор пишет письмо жене, про которое есть воспоминание Ф.М. Деларю (со слов его отца, поэта и переводчика М.Д. Деларю):
«Содержание этого письма, приблизительно, состояло в том, что Александр Сергеевич просит свою жену быть осторожною в своих письмах, так как в Москве состоит почт-директором негодяй Булгаков, который не считает грехом ни распечатывать чужие письма, ни торговать собственными дочерьми. Письмо это, как оказалось по справкам, действительно, не дошло по назначению, но и в III отделение переслано не было ».
Фактически письмо было адресовано Булгакову. Не берусь утверждать, что Пушкин отбил у него охоту лезть в его переписку с Натальей Николаевной, – но не исключено, что почт-директор, увидев, что о его действиях становится общеизвестно, в дальнейшем мог и поостеречься действовать подобным образом. Булгаков получил пощечину и, как и следовало ожидать, письмо уничтожил. Тем не менее Пушкин озаботился тем, чтобы содержание письма не осталось неизвестным, показав его Деларю. Ну, а Бенкендорф и царь? Так и остались безнаказанными? Как бы не так: у этой истории было совершенно неожиданное продолжение.
Вероятно, Пушкин рассказал Гоголю, как он отомстил Булгакову, который и заикнуться не посмел об этом письме, а Гоголь, понимая, как болезненно поэт относится к перлюстрации его переписки, решил включить сам факт перлюстрации в пьесу – хотя и подал это внешне безобидно. Однако, хотя это и не самое смешное место в комедии, поэту оно безусловно должно было понравиться, поскольку Пушкин понимал, что царь и Бенкендорф, если они увидят спектакль, не смогут не увидеть и то, что они поставлены на одну доску с безнравственными уродами из гоголевской комедии.
19 апреля 1836 года на сцене Александринского театра был впервые поставлен «Ревизор», на премьере присутствовал Николай I, и уже во 2сцене Iдействия между городничим и почтмейстером прозвучал такой диалог:
Городничий. …Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам, для общей нашей пользы, всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этак немножко распечататьи прочитать: не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки. Если же нет, то можно опять запечатать; впрочем, можно даже и так отдать письмо, распечатанное. Почтмейстер. …Я вам скажу, что это преинтересное чтение. Иное с наслажденьем прочтешь – так описываются разные пассажи… а назидательность какая… лучше, чем в «Московских ведомостях»!.. Вот недавно один поручик пишет к приятелю и описал бал в самом игривом… очень, очень хорошо: «Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в эмпиреях: барышень много, музыка играет, штандарт скачет…» – с большим, с большим чувством описал. Я нарочно оставил его у себя. Хотите, прочту?
III
На первый взгляд, это место с его «немножко распечатать» не более чем забавно и свидетельствует лишь, с одной стороны, о наглой беспардонности городничего, а с другой – об откровенной пошлости почтмейстера, у которого слюнки текут от чужой интимной переписки. Однако же приведенные нами свидетельства о почтовом скандале 1834 года и знание того, насколько тесно были связаны Пушкин и Гоголь, показывают, откуда Гоголь получил такую информацию – можно сказать, из первых рук. Не эту ли, в том числе, сцену имел в виду Николай, когда после спектакля заметил: «Всем досталось, а больше всех мне»? Казалось бы, натяжка – но нет, скорей уж подтверждение пройденного… другими.
35 лет назад в сборнике «Путь в незнаемое» (М., 1976) была опубликована статья советского геофизика (!), академика М.И.Будыко «Друг Пушкина». Уже давно умер сам академик (он скончался в 1980-м), о статье не пишут и не вспоминают, а между тем это замечательная и важная работа. Ценность ее тем выше из-за того, что она расположена на стыке исследований жизни и творчества и Пушкина, и Гоголя, – и в обоих случаях эта статья являет новый взгляд на их взаимоотношения, опровергающий устоявшиеся и до сих пор бытующие представления об истории создания «Ревизора». Статья написана хорошим языком, выдержана в духе увлекательного расследования, у нее свой, занимательный сюжет – она самодостаточна. Но, поскольку жанр этой книги несколько отличен по форме и требует всевозможного документального подтверждения выдвигающимся версиям, нам придется изложить открытие Будыко (а это именно открытие – как пушкиноведческое, так и гоголеведческое), подтвердив ход его мысли как цитатами из «Ревизора», так и необходимыми выдержками из воспоминаний современников.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: