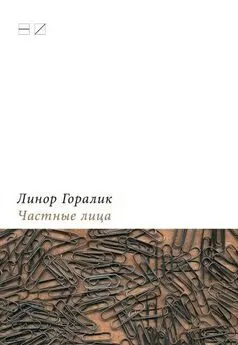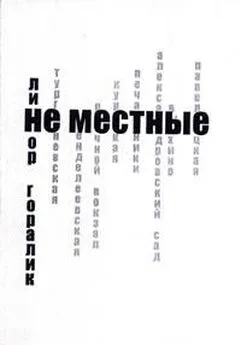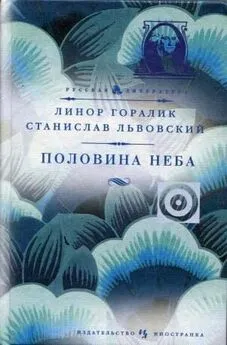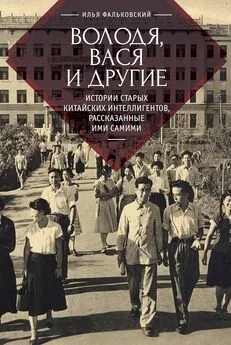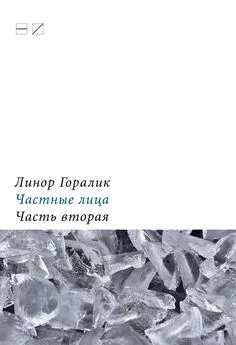Линор Горалик - Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими
- Название:Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2013
- Город:М.
- ISBN:978-5-98379-16
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Линор Горалик - Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими краткое содержание
Читателю никогда не приходится рассчитывать на то, что поэт напишет собственную автобиографию; в большинстве случаев поэты никогда этого и не делают. Поэту же, по большому счету, никогда не приходится рассчитывать на то, что ему будет предоставлено право представить читателю собственную жизнь так, как сам поэт пожелал бы. Долгосрочный проект Линор Горалик «Частные лица: биографии поэтов, рассказанные ими самими» – это попытка предоставить сегодняшним поэтам свободу рассказать о себе на своих условиях. Нынешний – первый – том «Частных лиц» включает в себя автобиографии тринадцати поэтов – Михаила Айзенберга, Сергея Завьялова, Владимира Гандельсмана, Александра Бараша, Алексея Цветкова, Веры Павловой, Натальи Горбаневской, Федора Сваровского, Сергея Гандлевского, Александра Скидана, Елены Фанайловой и Бориса Херсонского.
Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В Европе холодно, в Италии темно,
И только светится знакомо
Прямоугольное окно
На третьем этаже обкома.
Ничего, кроме ерничества, у меня не получилось, и я с огромной легкостью отказался от идеи выпустить книжку. У меня не было этого лежащего на плечах кирпича, что я пишу для того, чтобы печататься. Были годы, когда я мог написать одно-два стихотворения. Эти стихи в моем городе пользовались определенной популярностью, перепечатывались, ходили по кругу, и это меня полностью удовлетворяло. Мечтаний о всесоюзной славе не было. У меня была одна встреча в Москве, когда поэт, посмотрев мои стихи, сказал: «В этих стихах вы чего-то недоговариваете. Я понимаю, что именно и что то, что вы недоговариваете, нельзя напечатать, но и то, что вы написали, тоже нельзя напечатать. Уезжайте». Он сам уехал, и мы недавно видели его в очень тяжелом состоянии в Нью-Йорке. Это была моя первая встреча с Александром Межировым. Потом мы встречались еще несколько раз, последний раз недавно, но он, к сожалению, был уже совсем пожилым человеком, перенесшим инсульт, но когда он начинал читать свои стихи, что-то к нему возвращалось. Сейчас его нет уже на белом свете… Почти аналогичный разговор с таким же советом был у меня в редакции «Юности» с Юрием Ряшенцевым. Этим летом мы встретились и вспомнили ту ситуацию с улыбкой… Где-то до 1986 года я, что называется, не высовывал нос, то есть до перестройки. Потом, когда я понял, что, в общем-то, вроде пришла свобода, и принес пару подборок в одесские газеты, там это не пришлось. В Одессе считалось, что меня не нужно печатать. Опять-таки, это меня огорчило, но не слишком. А потом вдруг в газете «Русская мысль: Бродский и его современники» вышла моя подборка. Ее принес туда ныне покойный мой друг Алик Батчан, работавший тогда на станции «Голос Америки». Но эта газета попала в Одессу, и после этого ко мне был проявлен интерес, и сам я стал себе чуть больше интересен. Начал готовить книжку, которая каждый раз то должна была выйти, то не должна. В конце концов она и вышла в 1993-м, после распада Союза. До этого были считанные подборки. Ну, собственно говоря, у меня была основная работа, у меня была четкая потребность писать, и я это делал, и у меня не было тогда особой потребности в публикациях. Когда у меня набиралось стихов на небольшую книжечку, я печатал книжечку минимальным тиражом в Одессе, читал друзьям – это было ОК. Нет, вру, еще меня печатала газета «Новое русское слово» регулярно, я бывал регулярно в Нью-Йорке. Был такой журнал «Слово», он и сейчас меня печатает, Лариса Шенкер там редактор, это тоже где-то с 1993-го началось. Еще какие-то эмигрантские издательства: как-то журнал «Алеф» меня напечатал, но это все носило совершенно бессистемный характер. «Глобус» – была такая газета в Израиле, меня там печатали. И вообще я в то время ушел в большей степени в журналистику. С 1980-х годов я работал в городской газете, заведовал отделом, потом в областной газете, никогда не бросая лечебного дела.
ГОРАЛИК Мы проскочили большой кусок жизни – про преподавание. Вы ничего об этом не сказали.
ХЕРСОНСКИЙ Потому что взять на преподавательскую работу, извините меня, еврея, в то время в институте не могли. Единственная моя попытка «прорваться» в Одесский медин была уже тогда, когда перестройка шла вовсю. И тот, кто меня продвигал, рассказывал мне про ректора, с которым он говорил: «Я ему: мне нужна еврейская голова для моей докторской диссертации, а он все равно твердит „нет“». Я уже говорил, что с 1996 года я сотрудник Одесского университета, а с 1999-го – заведую кафедрой клинической психологии, которую, как вы понимаете, сам и создал. Но до университета был благотворительный колледж «Социум», где группа энтузиастов учила ребят психологии и социальной работе… Долгие годы я преподавал в Киеве, в Международном институте глубинной психологии. Много времени уделялось работе психоаналитического общества, которое я возглавляю и поныне, но чисто формально. В последние годы я отошел от этой работы. Слишком много всего…
ГОРАЛИК В каких еще жанрах вы работали?
ХЕРСОНСКИЙ В общем, я еще и журналист, и эссеист. Я был активен где-то с 1989 по 2001 год. Даже вел новостную программу на местном телеканале. Сотрудничал с о. Марком Смирновым на радиостанции «Свобода». Потом в Украине начали происходить разные вещи, которые в цивилизованном мире принято называть ограничением свободы слова: писать о том, что думаешь, стало невозможно, и, следовательно, работать было неинтересно. В общем-то, и количество «глотателей пустот, читателей газет» постепенно уменьшилось до критического уровня, этот жанр у нас, если речь идет не о телевидении, постепенно умирает. Я вовремя ушел в свою основную профессию.
ГОРАЛИК Как сочетаются отстраненность и прагматизм эмоционального восприятия, необходимые в вашей профессии, с зачастую неотъемлемой от поэзии необходимостью проживания и передачи эмоций?
ХЕРСОНСКИЙ Мне кажется, что эта сдержанность, отстраненность и прагматическое отношение к переживаниям пациента – это скорее декларация психоанализа, чем реальность. Огромное количество литературы посвящено контрпереносу, то есть тем чувствам, которые испытывает аналитик, слушая клиента. Достаточно прочитать антологию «Эра контрпереноса», она недавно была издана, чтобы понять, что отстраненность и прагматизм психоаналитика – это миф, и речь идет скорее о внешней сдержанности. Поэзия, творчество – это как раз способ непрямого отреагирования этих эмоций. Кроме того, и для поэта, и для психоаналитика необходим контакт с собственным бессознательным. Этот опыт я приобрел в основной профессии, и он неоценим при работе над текстом.
ГОРАЛИК Из текстов последнего времени считывается очень интересная структура отношения с «корнями». Эта тема присутствует у вас как требующая осмысления – или как требующая «опоэтизирования»?
ХЕРСОНСКИЙ Для меня не существует понятия «тема для стиха», я практически никогда не садился, чтобы написать стихотворение на какую-то тему. Единственное исключение, пожалуй, – когда я писал сценарий для агитбригады канатного завода в 1970-е годы. Это был единственный случай «продажности»: на вырученные деньги я приехал в Москву и очень хорошо оттянулся. Обычно я чувствую, что во мне начинается какое-то брожение, при пробуждении начинают мелькать какие-то строки, стихи складываются почти полностью устно, а затем я уже сажусь к компьютеру (как когда-то садился к пишущей машинке) и фиксирую то, что происходило. Поэтому скорее это тема, требующая осмысления и прочувствования, то, о чем я постоянно думаю и что иногда становится стихами, иногда чем-то иным.
ГОРАЛИК Почему так происходит?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: