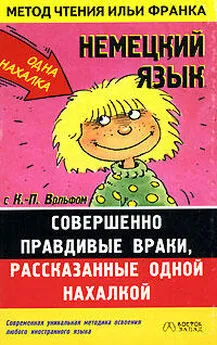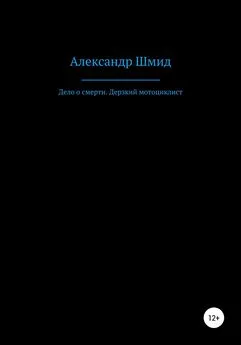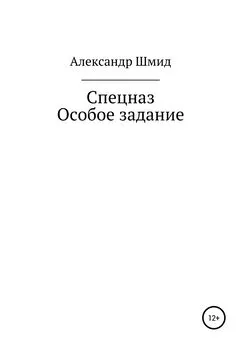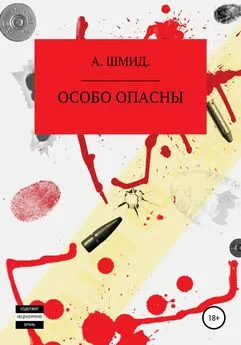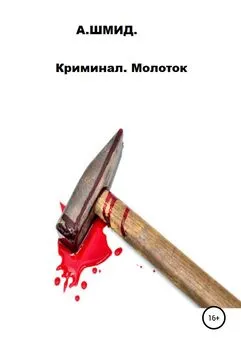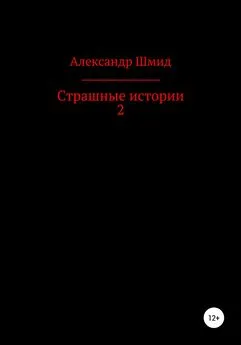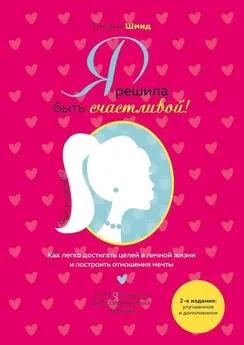Вольф Шмид - Нарратология
- Название:Нарратология
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0253-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вольф Шмид - Нарратология краткое содержание
Книга призвана ознакомить русских читателей с выдающимися теоретическими позициями современной нарратологии (теории повествования) и предложить решение некоторых спорных вопросов. Исторические обзоры ключевых понятий служат в первую очередь описанию соответствующих явлений в структуре нарративов. Исходя из признаков художественных повествовательных произведений (нарративность, фикциональность, эстетичность) автор сосредоточивается на основных вопросах «перспективологии» (коммуникативная структура нарратива, повествовательные инстанции, точка зрения, соотношение текста нарратора и текста персонажа) и сюжетологии (нарративные трансформации, роль вневременных связей в нарративном тексте). Во втором издании более подробно разработаны аспекты нарративности, события и событийности. Настоящая книга представляет собой систематическое введение в основные проблемы нарратологии.
Нарратология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
82
См. [Виноградов 1926а; Ханзен-Лёве 1978: 274—278]. О сказе и его типах см. ниже, главу V.
83
Не совсем ясное понятие «ненадежного» нарратора было создано У. Бутом [1961]. Согласно его определению, следует говорить о «ненадежном» нарраторе в том случае, когда нормы нарратора и «имплицитного» автора не совпадают. По новейшим определениям, в свете «когнитивной» теории, мерилом ненадежности должен служить не «имплицитный» автор, а конкретный читатель (ср. [Нюннинг 1998; 1998 [ред.]; 1999].
84
За указание на произведения Пинчена и Абботта благодарю членов гамбургского Центра нарратологии М. Клеппера и В. Шернуса.
85
Ср. в этой связи понятия Лео Шпитцера [1923а] «псевдообъективная мотивация» и «псевдообъективная речь», применяемые к роману Шарля Луи Филиппа «Бюбю с Монпарнаса», где многие обосновывающие предложения, хотя и появляются в речи нарратора, все же выражают мысли действующих персонажей, доводы, на которые те ссылаются.
86
Еще радикальнее, чем Рьян, оспаривает автономный статус нарратора Юрген Петерсен [1977: 176—177], считающий, что всякий нарратор «от третьего лица», в отличие от нарратора «от первого лица», как бы субъективен он ни был, принципиально лишен «персональности» (Personalität), т. е. «повествующий медиум не предстает в сознании читателя как персона». В случае иронической оценки, постулирует Петерсен, ирония касается только повествуемого, никак не характеризуя нарратора, «потому что тот, не имея персональности, не может иметь и никаких свойств характера». Не движется ли такая аргументация по порочному кругу?
87
В книге о Достоевском [1973: 26] я придерживался еще другой позиции, допуская тогда возможность полного отсутствия симптомов и, тем самым, безнарраторского нарратива. Это подверглось справедливой критике [де Хаард 1979: 98; Харвег 1979: 112—113; Линтфельт 1981: 26; Пенцкофер 1984: 29]. При этом де Хаард [1979: 98] отметил, что такая позиция не совместима с моей моделью коммуникативных уровней и с теорией текстовой интерференции.
88
Эти термины (primary, secondary, tertiary narrator) введены Бертилем Ромбергом [1962: 63]. Они кажутся мне более удобными, чем сложная система терминов, введенных Женеттом [1972: 237—241]: «экстрадиегетическое» повествование (= первичное повествование), «диететическое», или «интрадиегетическое», повествование (= вторичное повествование), «метадиегетическое» повествование (= третичное повествование). Префикс мета– в последнем термине означает, по объяснению Женетта [1972: 238, примеч. 1], «переход на вторую ступень». Позднее Женетт [1983: 61] защищает этот термин от оправданной, с моей точки зрения, критики [Бал 1977а; 24, 35; 19816; Риммон 1983: 92,140]. Нецелесообразно осложнять несложное явление рамочных структур терминологией, резко противоречащей обычному словоупотреблению. О преимуществе традиционной терминологии ср. также: Ян и Нюннинг [1994: 286– 287].
89
Об основных типах отношений между обрамляющими, первичными и вставными, вторичными историями см.: [Леммерт 1955: 43—67; Женетт 1972: 242—244].
90
Под «диегесисом» (от греч. διήγησις «повествование») я разумею «повествуемый мир». Прилагательное «диегетический» означает «относящийся к повествуемому миру». Понятие «диегесис» имеет в современной нарратологии другое значение, нежели в античной риторике (ср. [Веймар 1997]). У Платона понятие «диегесис» обозначает «собственно повествование», в отличие от «подражания» (мимесиса) речи героя. Новое понятие было введено теоретиком кинематографического повествования Этьен Сурио [1951; 1990: 581], определявшим понятие diégèse как «изображаемый в художественном произведении мир». Женетт [1972: 278—279] определяет это понятие, заимствованное из работ по теории кино, в обычном словоупотреблении как «пространственно-временной универсум, обозначаемый повествованием», а слово «диегетический» в обобщенном виде – как «то, что относится или принадлежит к [повествуемой] истории».
91
Понятие «экзегесис» (от греч. ἐξήγησις «объяснение», «истолкование»), употребляемое в «Грамматике» Диомеда (IV век н. э.) как синоним слов ἀπαγγελία и narratio для обозначения собственно повествования, относится к тому плану, в котором происходит повествование и производятся всякого рода сопровождающие изложение истории объяснения, истолкования, комментарии, размышления или метанарративные замечания нарратора.
92
Отправляясь от античного словоупотребления, Е. В. Падучева [1996: 203] именует недиегетического нарратора «экзегетическим». Но введенное ею противопоставление «экзегетический – диегетический» не совсем правильно моделирует асимметричность этих двух типов нарратора. «Диететического» нарратора, собственно говоря, следовало бы назвать «экзегетическим-диегетическим», поскольку он фигурирует и в том и в другом плане. Так как принадлежность к экзегесису не является признаком различительным, здесь отдается предпочтение чистой оппозиции бинарных признаков «диегетический – недиегетический».
93
В немецкоязычной теории эти инстанции называются обычно «повествующим» и «переживающим» «я» (erzählendes – erlebendes Ich) (ср. [Шпитцер 1928а: 471] и независимо от него: [Штанцель 1955: 61—62]). В англоязычной науке эти термины были переведены как narrating – experiencing self (ср. [Кон 1981:180]).
94
Впрочем, диегетического нарратора можно было бы назвать «интрадиегетическим», поскольку он фигурирует как повествуемое «я» в диегесисе, а недиегетического – «экстрадиегетическим», так как он остается вне диегесиса. Но в этом случае получилась бы полная путаница с широко распространенной терминологией Женетта, у которого интра– и экстра– обозначают другие структуры.
95
Разные варианты «рассказа от второго лица» рассмотрены в: [Корте 1987; Флудерник 1993; 1994].
96
Ср., напр., [Лейбфрид 1970: 246; Кон 1981; Петерсен 1981; Брейер 1998].
97
Ср. подробные анализы: [Шмид 1981а: 164—170].
98
Ф. Штанцель, хотя и оспаривает тезис Кайзера о встречающемся в некоторых случаях искусственном единстве повествуемого и повествующего «я» [1979: 111—112], в другом месте [1979: 271] сам указывает на «отчуждение» этих инстанций (например, в романе Д. Дефо «Молль Флендерс», где повествуемое «я» героини вместе с размышляющим чужим «аукториальным» «я» как бы запряжено в хомут единственной персоны).
99
Термин «наррататор», введенный Ильиным [1996г], является русским эквивалентом французского понятия narrataire [Женетт 1972: 226; Принс 1973а] и английского narratee [Принс 1971]. Впервые использовал дихотомию narrateur – narrataire, по аналогии destinateur – destinataire, P. Барт [1966:10].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: