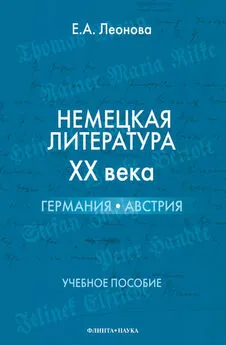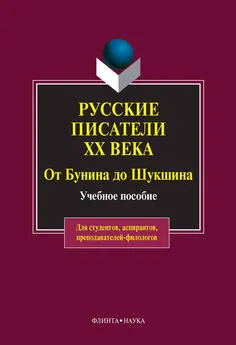Ева Леонова - Немецкая литература ХХ века. Германия, Австрия: учебное пособие
- Название:Немецкая литература ХХ века. Германия, Австрия: учебное пособие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-0834-7, 978-5-02-037156-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ева Леонова - Немецкая литература ХХ века. Германия, Австрия: учебное пособие краткое содержание
Пособие состоит из двух разделов. Первый содержит характеристики крупнейших явлений в литературах Германии и Австрии на рубеже XIX–XX вв., в 1-й половине XX в. и во 2-й половине XX в. соответственно. Второй раздел включает преимущественно литературные портреты крупнейших немецкоязычных писателей (Г. Гауптмана, Т. Манна, Г. Манна, Р.М. Рильке, Б. Брехта, С. Цвейга, П. Хандке, Э. Елинек и др.).
Для студентов филологических факультетов вузов, а также всех, кто интересуется немецкой литературой.
Немецкая литература ХХ века. Германия, Австрия: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Творчество Э. Елинек широко известно за пределами Австрии и Германии, о чем свидетельствуют переводы ее произведений на многие европейские языки, включая русский (в переводе А. Белобратова опубликованы в 1996 г. роман «Любовницы», в 2004 г. – роман «Пианистка», в переводе Т. Набатниковой в 2006 г. – роман «Алчность», в переводе М. Кореневой в 1997 г. – рассказ «Заведомо бессмысленная попытка описания пейзажа», в 2008 г. в переводе В. Седельника – повесть «Вавилон» и в переводе М. Куличихиной – роман «Бембиленд»; вышли на русском и другие ее произведения). В последние годы мировая известность писательницы возросла еще и благодаря успеху фильма Михаэля Ханеке «Пианистка», снятого по ее роману; в 2001 г. кинолента была удостоена Гран-при на Каннском фестивале, а в январе 2002 г. признана лучшим зарубежным фильмом на российском «Кинотавре».
Казалось бы, творческая судьба Э. Елинек складывается как нельзя лучше. Между тем, судя по прессе, отношения писательницы с рецензентами, прежде всего на родине, складываются непросто. Э. Елинек характеризует их типичные реакции на свое творчество словами: «взвинченность», «повышенное напряжение», «цензорский окрик», «откровенная злоба», «чрезмерная эмоциональность». «Что касается литературных критиков, – говорит она, например, в интервью известному литературоведу и переводчику А. Белобратову, – то меня всегда поражала ярость, с какой они реагировали на мои тексты… У меня возникает чувство, что к моим книгам мало кто подходит со спокойно-взвешенных позиций» (1, 287). Суровые вердикты при этом сопровождаются обильным цитированием ее произведений. Нужно признать, что приводившиеся фрагменты, вырванные из контекста, действительно могут повергнуть в шок даже далеких от эстетства читателей. Впрочем, произведения Э. Елинек и в своей первозданной целостности способны шокировать. Особенно тех, кто продолжает – несмотря ни на какие примеры и традиции – непоколебимо упорствовать в кардинальном разведении не столько даже тем и проблем творчества, сколько реалий человеческой жизни, одни из которых позволительно осваивать художникам, другие – обречены на бессрочные табу.
В чем же состоит суть, как говорит сама Э. Елинек, ее «вести», что представляет собой «эстетический код» (1, 287) писательницы? Попытаемся разобраться в этом на материале ее романа «Пианистка»(«Die Klavierspielerin»), до последнего времени наиболее известного русскоязычному читателю, в немалой степени благодаря успешной экранизации Михаэля Ханеке.
В основу сюжета произведения положена история взаимоотношений матери и дочери, все остальное – можно смело утверждать – из этих взаимоотношений проистекает. Соответственно, и каркас фабулы составляют уходы дочери из дому и возвращения домой, под материнское крыло. Повествование обрамляется именно мотивом возвращения домой: оно начинается со слов «В квартиру, в которой она живет вместе с матерью, учительница музыки Эрика Кохут врывается как ураганный ветер. Матери нравится называть Эрику «мой маленький ураган», ведь ребенок порой неудержим и стремителен» (роман цитируется в переводе А. Белобратова) и заканчивается словами «Эрике известно направление, в котором она идет. Она идет домой. Она идет и постепенно ускоряет шаги». Впрочем, дом и «мамуля» никогда не оставляют Эрику, а она – их. Чем бы она ни занималась, в какой бы точке Вены ни находилась, она всегда на пути домой; в родной дом она спешит вернуться, даже не успев его покинуть. Так, буквально с четвертой-пятой фраз повествования, начинает выясняться подлинный смысл отношений между матерью и дочерью; содержание же первой фразы, своеобразной идиллической затравки, опрокидывается, оборачивается своей полной противоположностью и мгновенно встраивается в оппозицию «реальность – видимость». Не успев умилиться взаимной нежности матери и трогательно опекаемого ею чада, читатель вынужден с небес – нет, не спуститься – упасть, грохнуться, причем не на землю, а прямиком на ристалище, где в поединке не на жизнь, а на смерть сошлись непримиримые враги. Оказывается, дитяти уже за тридцать, и шустра Эрика по необходимости: в неведомо который раз она пытается ускользнуть от грозящей ей «расправы», и в неведомо который раз «мамочка», «инквизитор и расстрельная команда в одном лице», настигает дочь, «призывает ее к ответу», «прижимает к стенке», «допрашивает» и «распинает» свое «ускользающее из рук создание».
Беспощадно тщательно, во всех подробностях, обрисовывается действительное положение дел (так и хочется сказать – и тел, ибо Эрика с «вышестоящей инстанцией» нередко вцепляются друг в друга, чтобы затем, после очередной порции рыданий, площадной брани и новых проплешин на материнской голове, заключить перемирие). Сама автор конкретизирует ситуацию следующим образом: «В «Пианистке» в центре внимания мать, которая за неимением мужа берет на себя отцовские функции и стремится воспитать из дочери музыкального гения, совершенно подавляя ее личность. Гениальности в дочери не обнаруживается, и она терпит жизненное поражение» (1, 291). Однако чем отдаленнее заветная цель и утопичнее ее достижение, тем она соблазнительнее, тем ревностнее мать в своих усилиях оградить дочь от внешнего мира, от нормальной, естественной жизни, ограничить последнюю стенами «инкубатора, в котором они обе обитают». И тем настойчивее напрашивается мысль о том, что патологическое по масштабам желание матери «взрастить гения» и столь же патологическое желание подчинить дочь, единолично распорядиться ею, парализовать ее волю есть не что иное, как изощренная форма сублимации садистских наклонностей, сместившихся в сторону дочери после того, как под рукой не стало прежнего объекта – мужа, в результате супружества помешавшегося и заботливо помещенного женой в сумасшедший дом, более напоминающий полусвинарник-полутюрьму.
Снедаемая безмерным честолюбием, нравственно глухая и эгоистичная, превратившая дом – то есть то, что должно бы быть тихой пристанью, убежищем и надежным оплотом, – в западню для дочери, этакую домашнюю преисподнюю, подобие бездонной черной дыры, всасывающей малейшие проявления живого, мать в романе Э. Елинек всевластна и за пределами своего с дочерью жилища. Для нее нет непроницаемой материи, она вездесуща и – чаще незримо для посторонних – сопровождает дочь в классной комнате, зале филармонии, вагоне трамвая. О неизменном присутствии матери в сознании дочери, о разрушительном влиянии на ее существование повествуется ужасающе предметно. Едва увидев «выползающий из ее собственной утробы бесформенный кусок глины, она не мешкая принялась энергично месить и обрабатывать его» да так и не прекратила этого занятия: вот она «напяливает на ребенка музыкальную сбрую», вот «усердно принимается развинчивать на мелкие части» надежды Эрики, а вот «свинчивает крышку ЕЕ черепа, самоуверенно запускает в него руку и роется там, что-то выискивая. Она поднимает все вверх дном и ничего не кладет на свое место. Поперебирав немного, она достает часть вещей наружу, рассматривает под лупой и выбрасывает вон. Какие-то вещи мать расправляет, энергично трет щеткой, губкой и тряпкой. Затем все как следует протирает и снова ввинчивает крышку на место, словно вставляя нож в мясорубку».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: