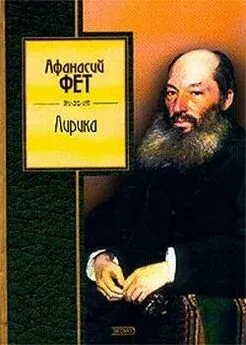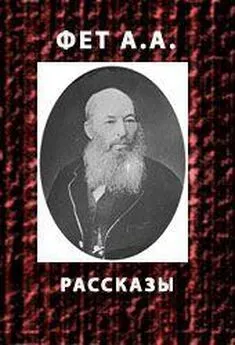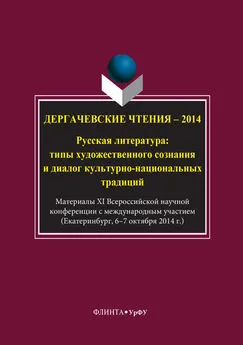Альбина Саяпова - Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз)
- Название:Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-1001-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альбина Саяпова - Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз) краткое содержание
Лирика А.А. Фета, осмысленная как диалог с лирикой Хафиза, позволяет говорить о взаимодействиях «резонансного» типа. Художественно-философское выражение Хафизом сущностного начала эхом отзывается в западной поэзии и философии (Гете, Гейне, Шопенгауэр, Хайдеггер, Ясперс), а через них – в русской, в частности, в поэзии Фета.
Монография предназначена для исследователей творчества А.А. Фета, специалистов-филологов, студентов, всех интересующихся проблемами русской поэзии XIX века.
Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пытку свою обновлять добровольную. Я же не знаю,
Что добровольным зовется и что неизбежным на свете...
В последних двух стихах в форме риторического вопроса определяется «мысль заветная» лирического «я», к которой сердце, «как бабочка к свету», стремится. На этот вечный вопрос «Что добровольным зовется и что неизбежным на свете...» нет и не может быть ответа, но он волнует лирического героя, является его ночным «нелепым раздумьем».
В традиционной суфийской поэзии образ бабочки, стремящейся к огню, обладает устоявшимся значением: им выражалось стремление к познанию. В суфийской поэзии, в творчестве Хафиза в частности, «свеча» – высшая божественная Истина, а «мотылек» стремится к ее свету для того, чтобы, сгорев в пламени свечи, слиться с божеством и ощутить свое с ним единство (кульминация единства – «небытие в Истине»).
Известно, что многие суфийские образы, широко распространившись в мировой поэзии, воспринимаются как традиционные. Таковым является, по мнению Г.П. Козубовской, образ «бабочка – свет (огонь)» в этом стихотворении Фета. Смысл «традиционного» образа расшифровывается ею как «обозначение неразумности человека в его устремлении к истине» [13: 153–154]. Вместе с тем исследователь признает ключевое значение этого образа в системе поэтики произведения.
На наш взгляд, благодаря суфийскому подтексту и определяется глубина философемы поэта «Сердце – Икар неразумный – из мрака, как бабочка к свету, / К мысли заветной стремится». «Неразумность» в устремлении к истине – способность поэта-мыслителя, который не похож на тех, кого день «торопит всечасно своею тяжелой заботой, / Ночь, как добрая мать, принимает в объятья на отдых». Фет на образном языке, сформулированном еще суфизмом, сказал, что истина – «мысль заветная» – постигается не разумом, а сердцем – «Икаром неразумным», что является основополагающим положением философии суфизма.
Нельзя не согласиться с Г.П. Козубовской в том, что образ полета бабочки к свету обнажает двойственность оценки «мысли заветной», обусловленной «двойным бытием» («Я же не знаю, что добровольным зовется и что неизбежным на свете...») [13: 154]. Именно этот образ подводит к истокам фетовского понимания бытия, человека в нем, который всегда стоит перед неразрешимыми вопросами.
Анализируя стихотворения Фета «Из Гафиза», следует помнить, что суфийская поэзия, опираясь на традиционную арабскую, персидскую любовную лирику, создала образный язык, имманентно несущий в себе архаичную семантику не условного сходства, а субстанциального синкретизма, который требует не метафорического понимания смысла образа, а буквального. Суфийский поэт выстраивает целую систему образов с тем, чтобы сказать о Боге, своей любви к нему, о пути к нему («ман»).
Подобная черта свойственна и поэзии Хафиза. Образная система его лирики, выстроенная по канонам символической системы суфийской поэзии, которая, в свою очередь, воспользовалась образами древней любовной лирики, является, прежде всего, выразителем любви, красоты как возвышенного, божественного. Ориентация на архаическую семантику древней любовной лирики предполагает буквальное, неметафорическое толкование образа, за которым стоит субъект-объектная неразделенность как выражение архаического взгляда восточного человека на природу и человека в ней, предполагает интериоризацию (о внутреннем мире человека через «язык» природы), художественно она, как правило, выражалась через двучленный параллелизм. И философия суфизма, выписывая формулу постижения истины «единства бытия», отрицала субъект-объектную расчлененность, поскольку только «смерть» феноменального «я» открывает путь к сущностному знанию [14: 197].
В цикле «Из Гафиза» есть два четверостишия, написанных в стиле рубаи, в которых присутствует образ кудрей, весьма характерный для творчества Хафиза.
Первое:
Ах, как сладко-сладко дышит
Аромат твоих кудрей!
Но еще дышал бы слаще
Аромат души твоей.
Второе:
Гиацинт своих кудрей
За колечком вил колечко,
Но шепнул ему зефир
О твоих кудрях словечко.
И опять Фет уловил смысловую игру Хафиза образом кудрей-волос, который содержит семантику земного, поэтизированного как Возвышенное, а также семантику Возвышенного, поэтизированного в стилистике древней любовной лирики. Фет использует архаический тип словесного образа – двучленный параллелизм. Отношениями параллелизма связаны кудри гиацинта и кудри возлюбленной, связующее звено – зефир. Подобный язык, как мы уже говорили, был свойственен восточным поэтам, поскольку именно он выражает отношения «человек – природа» в субъект-объектной неразделенности.
В газели Хафиза « Садовник верный! Если с розой побыть желаешь пять ночей ...» образ сердца «в силках пленительных кудрей» определяет любовный сюжет с соловьем и розой. Локон «колечком», по ассоциативному мышлению восточного поэта, вызывает характерный для любовной лирики образ силка, в который попадает сердце влюбленного, стремящегося к возлюбленной. Образ имеет суфийскую транскрипцию.
Анализируя суфийские символические образы, Е.Э. Бертельс пишет: «...мир эманаций суфии представляют себе в виде кольца, замыкающегося на последнем заключительном звене – человеке». Семантика символического образа говорит о том, что ищущий бога суфий пойман в кольце низших миров и должен стремиться к освобождению из него. Кривизна локона, замыкающегося в кольце, как символический суфийский образ выражает, как пишет исследователь, множественность явлений мира. Каждое явление мира может увлечь человека, сбить с прямого пути, заставить забыть основную цель. Каждый локон завитка – силок для неопытного сердца [5: 115]. Основная цель суфия – постижение Абсолюта. Стремиться к постижению мира – значит смущать сердце, поскольку «мир – нереален, он – фантасмагория, спутанность, изучить его до конца нельзя». Суфий должен прийти к единственно верному решению: «Я не знаю мира и не должен знать, ибо я стремлюсь лишь к единой истине» [5: 116].
Образ возлюбленной дается в этой газели через парный образ «лик и кудри» – своеобразную дихотомию, поскольку составляющие образа – диаметрально противоположны: лик – это выражение Абсолюта, кудри, как сказали выше, это то земное, что мешает стремлению к единой истине. Любопытно хафизовское обыгрывание этого парного образа:
Твой лик и кудри так прекрасны, что видеть их не смеет тот,
Кому любезней лик жасмина и нежный гиацинт милей.
Ее нарциссам возбужденным, ее соблазнам покорись, –
Таков удел сердец влюбленных, покорных пленников страстей.
О доминанте земного над суфийским толкованием образа говорит и финал газели:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: