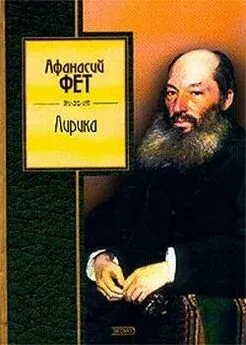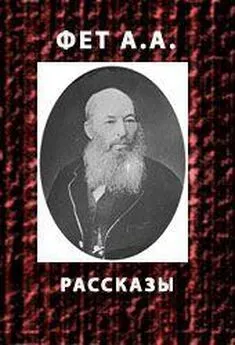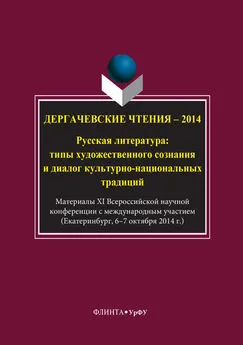Альбина Саяпова - Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз)
- Название:Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-1001-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альбина Саяпова - Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз) краткое содержание
Лирика А.А. Фета, осмысленная как диалог с лирикой Хафиза, позволяет говорить о взаимодействиях «резонансного» типа. Художественно-философское выражение Хафизом сущностного начала эхом отзывается в западной поэзии и философии (Гете, Гейне, Шопенгауэр, Хайдеггер, Ясперс), а через них – в русской, в частности, в поэзии Фета.
Монография предназначена для исследователей творчества А.А. Фета, специалистов-филологов, студентов, всех интересующихся проблемами русской поэзии XIX века.
Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С чем нас сравнить с тобою, друг прелестный?
Мы два конька, скользящих по реке,
Мы два гребца на утлом челноке.
Мы два зерна в одной скорлупке тесной,
Мы две пчелы на жизненном цветке,
Мы две звезды на высоте небесной.
Выше изложенный анализ стихотворения « О, если бы озером был я ночным... » говорит о том, что обращение Фета к Хафизу способствовало формированию в его лирике тех черт, которые будут определены как неосинкретизм (С.Н. Бройтман). Образный язык стихотворения не поддается логике субъект-объектных, причинно-следственных отношений. Так, за диалогом «Я – Ты» очевиден субъектный синкретизм, или нерасчлененность автора и героя; диалог выстроен по принципу двучленного параллелизма – древней формы синкретизма, объясняющейся ассоциативным типом мышления.
И наконец, следует подчеркнуть, что существенным фактором неосинкретизма как ориентации на архаические образцы средневековой литературы является отражение концепции времени как мировоззрения средневековья, характеризующейся принципиальной замкнутостью внутри себя, обращением в прошлое, а не в будущее. Востоковед Б.Л. Рифтин пишет: «Средневековые концепции времени и его движения у народов Востока, как правило, принципиально не отличались от распространенных в древности повсеместно взглядах. С этими концепциями связано и представление о “золотом веке”, относимом к далекому прошлому. Это во многом объясняет и характерные для ряда средневековых народов движения за “возврат к древности”. Первое такое движение возникает еще в пору поздней античности, у самого рубежа Средневековья (II–III вв. н.э.)» [6: 42–43].
Аналогичное в известном смысле течение, по мнению исследователя, наблюдается в средние века и на Востоке, «в частности, в особо отчетливо выраженной форме у китайцев и арабов – и у тех и у других в период развития Средневековья, т.е. в VIII–X вв.» [6: 43].
Так, Б.Я. Шидфар, рассматривая проблему формирования арабской философской лирики, представляет «зухдийят» как жанр средневековой арабской литературы, сыгравший существенную роль в становлении философской поэзии. «Зухдийят» определяет литературное направление, которое «носит более аутентичный характер, оно спорадически обнаруживается уже в самых ранних образцах арабской поэзии...» [7: 75]. И далее, оценивая творчество Аль-Маари как вершинную точку в развитии арабской философской лирики и вместе с тем как один из истоков развития «теоретической», или мистической, философской лирики на арабском языке (а может быть, в известной степени и персидской философской лирики), Шидфар представляет следующий этап философской поэзии – аллегорическую поэзию, которая обратилась к традиционной любовной и «винной» лирике, разработанной в совершенстве со времен доисламской поэзии. Образы философской лирики данного направления, как утверждает ученый, прошли характерный для арабской поэзии путь – «от «реалистических» (на основе стихийного материализма родоплеменного общества) образов, подвергшихся уже в дошедших до нас образцах доисламской поэзии определенной «заштампованности», подчиненности еще не сформулированному, но осознававшемуся канону, до сознательной канонизации <...> и, наконец, до полной утраты этими образами реального содержания, событийной наполненности, т.е. до их аллегоризации» [7: 101].
Таким образом, на примере становления арабской философской поэзии, представленной Шидфаром, мы видим, что в основе художественно-эстетических систем восточных литератур лежит принцип «возврата к древности», определяемый средневековой концепцией времени, в основе которой идея вечно длящегося настоящего, неразрывно связанного с прошлым [6: 42].
Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что стихотворение « О, если бы озером был я ночным... », содержащее мировосприятие человека Востока, становится, на наш взгляд, ключевым в целостной системе воззрения Фета на мир. Через него можно выйти к пониманию философско-эстетических взглядов поэта, определяющих его художественную систему. Решая ту или иную задачу поставленной нами проблемы, мы неоднократно будем обращаться к нему.
Итак, следует подчеркнуть, что обращение Фета к творчеству Хафиза формирует общую со средневековой поэзией Востока парадигму художественности, которая проявилась не только в циклах «Из Гафиза», «Подражание восточному», но в известном смысле во всем творчестве Фета, в его художественной системе романтизма. Схожесть парадигмы художественности Фета с парадигмой художественности Хафиза может быть прослежена на уровне мотивных систем текстов того и другого, образов-символов, а также на уровне семантики философски осмысленных подтекстов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Мамонова М.А. Запад и Восток. Традиции и новации рациональности мышления. М., 1991.
2. Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической литературы. М., 1974.
3. Теория литературы: в 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 2. М., 2004.
4. Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. Опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. М., 1993.
5. Теория литературы: в 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 1. М., 2004.
6. Рифтин Б.Л. Типология и взаимосвязи средневековых литератур // Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., 1974. C. 68–117.
7. Шидфар Б.Я. Арабская философская поэзия // Теория жанров литератур Востока. М., 1985. С. 75–115.
Феномен образного мышления А. Фета
Прежде чем рассмотреть концептуальную систему образов в целом ряде стихотворений, в которых концепты объекта – явления природы (небо, тень, огонек, месяц) – даны в предикативности как определяющие картину природы в ее очеловеченности, например, в стихотворениях « Дул север. Плакала трава... », « Весеннее небо глядится... » и многих других, необходимо сказать о фетовском феномене образного мышления, глубинных процессах творческого сознания, нашедших выражение в художественной структуре его произведений. Генезис этого явления может быть осмыслен через восточную средневековую поэзию.
Дело в том, что у Фета, как было замечено исследователями творчества поэта, а также теоретиками поэтики, одушевление природы часто не может быть воспринято как просто метафора, когда человеческие свойства приписываются явлениям природы в прямой связи со свойствами самих природных явлений – по сходству, происходит переосмысление тропов, подвергаются сомнению сами границы прямого и переносного значений слова [см. об этом: 1: 112–113, 2: 84, 3: 275–277]. Об этом феномене говорят на примере не только творчества Фета, но и Тютчева. Совершенно справедливо замечено, что природа у Фета предстает живой и говорящей не на метафорическом, а на каком-то «ином языке, не поддающемся логике субъектно-объектных и причинно-следственных отношений» (С.Н. Бройтман).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: