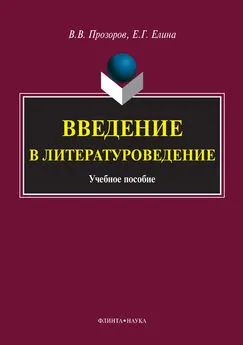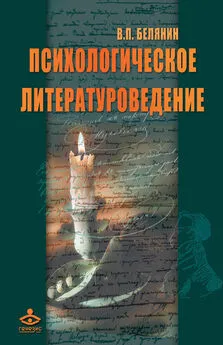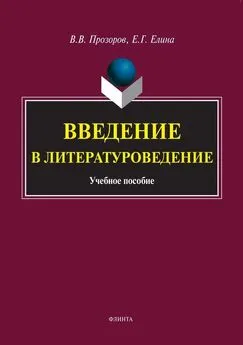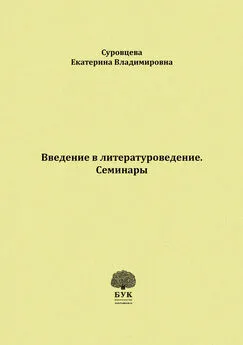Елена Елина - Введение в литературоведение
- Название:Введение в литературоведение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-1113-2, 978-5-02-037668-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Елина - Введение в литературоведение краткое содержание
В пособии представлены учебно-методические материалы, необходимые для системного глубокого освоения дисциплины «Введение в литературоведение»: лекционные материалы к курсу, программа практических занятий, тестовые задания, список литературы. Главная задача пособия – помочь студентам, начинающим свое профессиональное филологическое образование, составить надежное и прочное представление о назначении и составе литературной науки, помочь реальному формированию необходимых компетенций, связанных с путями и навыками литературоведческого труда.
Для бакалавров, обучающихся по направлению 032700 «Филология».
Учебное пособие.
Введение в литературоведение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В литературоведении все не так. Мы имеем здесь дело с художественными текстами, которые по самой своей загадочной природе взывают к общению.
Не будет никакого поэтического преувеличения в том, что в художественном произведении запечатлено (и запечатано) некое послание автора. К кому? Трудный вопрос. Искусство слова – не умирающая душа мастера. Мы хорошо помним пушкинское прозрение:
Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит…
Слово поэта подает о себе весть воображаемому читателю – «пииту» – поэту – читателю с разбуженным и развитым художественным вкусом и сознанием. И не только читатель выбирает книгу, но и сама «душа в заветной лире» распознает близкую, родственную читательскую душу.
Важно раз и навсегда понять: равноправны два зеркально явленных суждения:
« Я (читатель) воспринимаю текст» и
«Текст воспринимает меня (читателя)».
Первое суждение предельно ясно. Я открываю книгу и, если она на хорошо знакомом мне языке и если мне охота, я принимаюсь ее читать. Интересна мне книга, непременно дочитаю ее до конца и, может, со временем примусь перечитывать. Покажется мне книга скучной, непонятной и неинтересной, скорее всего, прерву чтение и не стану больше обращаться к ней. Как захочу, так и поступлю. В простоте душевной мне, читателю, кажется, что в диалоге с автором я полновластный хозяин положения…
На самом деле, все не так просто. Не только «я читаю книгу», но и сама «книга читает меня».
Как это понять?
Любой текст жаждет диалога, диалогического общения, читательского внимания и соучастия. Текст существует себе (в рукописном ли виде, в кожаном или картонном переплете, в бумажном варианте, в электронной версии – все равно) в молчаливом ожидании того самого желанного момента, когда он будет открыт вероятным читателем, когда читатель начнет в него вглядываться и углубляться, когда текст наконец сможет кому-то пригодиться, сможет быть кем-то воспринят, осмыслен, прочувствован.
И сам текст при этом не остается равнодушным к тому, кто принимается его читать. Текст внимательно «всматривается» в своего читателя, «примеряется» к его возможностям, к его внутренней подготовленности, к особенностям его интеллекта, душевной организации, литературной культуры.
Каким образом это происходит?
Если, скажем, мне, читателю, не нравится признанный миром классик, то, стало быть, в первую очередь это я ему, создателю совершенного текста, не пришелся по вкусу, показался скучным (или очень скучным), вялым, блеклым, неинтересным собеседником. Свое последнее слово о мире, о жизни людей автор запечатлел в тексте. И если контакт не случился, стало быть, это он, автор, со мной не захотел вступить в диалог, не ввел в свой сюжет, не впустил в свой художественный мир. А может быть, пристрастно вглядевшись, постарался быстрее распроститься, избавиться от меня, выставив за порог поэтического дома.
Захвачен я чтением, предположим, Антона Павловича Чехова, значит, совпали до какой-то степени наши с ним нравственно-поэтические координаты, состояния души.
Зеваю за книгой – она сама меня вежливо или раздраженно отторгает.
Мила мне какая-нибудь дешевая, откровенно бульварная литературная поделка, значит, автор ее нашел во мне близкого человека и готов заключить меня в свои цепкие объятия. Только так!
Здесь самое время разобраться в том, какими текстами главным образом занят литературовед-профессионал. Литературовед занимается разными по своим эстетическим достоинствам текстами. Конечно, его не может не интересовать так называемое массовое чтение, книги-однодневки, беллетристическое чтиво, различные «пробы пера» в Интернете. Особенно, когда в центре внимания литературоведа фигура читателя, чьи интересы в разные историко-литературные эпохи пестры и необыкновенно всеядны.
Но главный центр исследований литературоведа, конечно же, – классическая литература.
Каков объем этого хорошо знакомого нам понятия?
К литературной классике мы относим такие произведения национальной и мировой художественной словесности, которые обладают внутренней способностью пережить свое время и своего создателя-автора и остаться интересными, насущно необходимыми новым читательским поколениям.
Классический художественный текст подает о себе весть каждому, кто пристально и заинтересованно в него вчитывается. Но особенно благодарно открывается он профессионалу-литературоведу. Почему?
Дело в том, что опытный литературовед обладает навыками исключительно содержательного, проникновенного и благодарного, медленного чтения текста. Литературоведение – это прежде всего универсальная и социально значимая служба понимания художественного текста.
Литературовед начинается там, где ощущаются пределы обычной читательской компетенции.
Что это значит? Что такое пределы читательской компетенции ?
Вот перед нами известная со школьной скамьи классическая пьеса Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». Пытаемся ее прочесть и осмыслить. Вслушиваемся в диалоги и монологи персонажей, обращаем внимание на авторские пояснения-ремарки… Схватываем важные подробности, связанные с взаимоотношениями действующих лиц, с их разными судьбами, состояниями души, ожиданиями и тревогами. Пробуем понять, что же происходит на сцене. Так близко, так возможно спасение разоренной усадьбы Любови Андреевны Раневской. Сто́ит только, как советует Ермолай Лопахин, вырубить старый и свой век уже отживший вишневый сад, разбить землю на участки, участки выгодно продать дачникам, и все спасены.
Но герои, находясь в каком-то странном оцепенении, фактически бездействуют, словно бы не сознают, что всему конец, что имение скоро будет продано с молотка, что попадет оно в чужие руки. Что же это за люди такие? Что ими движет? Почему они друг друга не слышат и не понимают? Что вообще происходит в этом чеховском мире?
Некоторые школьные пособия и многочисленные, услужливо распространяемые через Интернет сочинения подсказывают, что все дело в остром социально-классовом конфликте, в столкновении поколений: с одной стороны, мол, старое, уходящее, вымирающее поместное дворянство (Раневская, Гаев, Симеонов-Пищик), с другой стороны, поднимающаяся, идущая им на смену буржуазия (Лопахин), с третьей – новые силы, молодые, бодрые, еще себя в полной мере не осознавшие (Аня, Петя Трофимов)… Подобные подходы к чеховской пьесе встречаем и в давних работах некоторых критиков и толкователей «Вишневого сада».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: