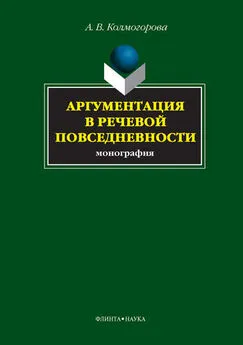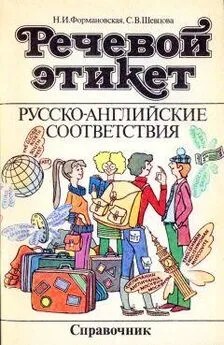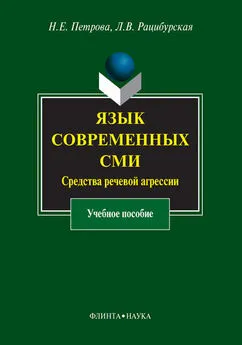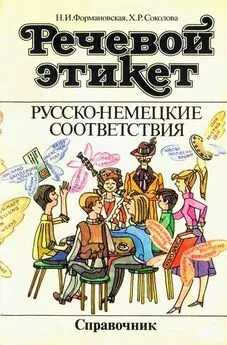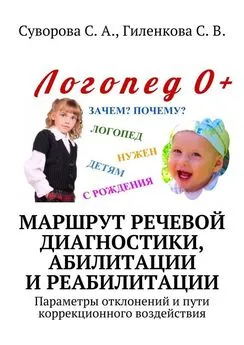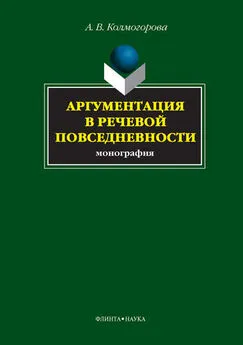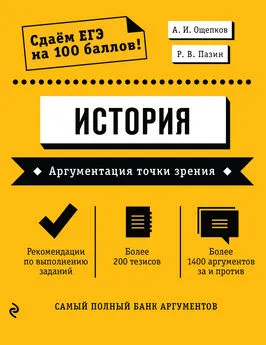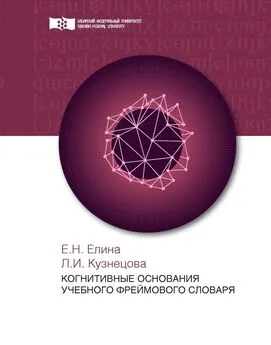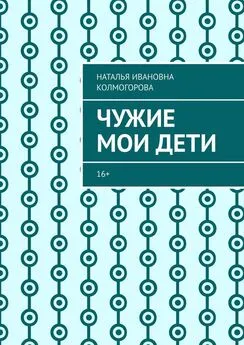А. Колмогорова - Аргументация в речевой повседневности
- Название:Аргументация в речевой повседневности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-0805-7, 978-5-02-034779-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А. Колмогорова - Аргументация в речевой повседневности краткое содержание
В монографии анализируется феномен аргументации, рассматриваемый не только как логико-философское или рационально-эвристическое явление, но и как имманентное свойство речевой коммуникации в целом, в том числе и в ее повседневном модусе. На обширном эмпирическом материале и с опорой на результаты экспериментальной работы выявляются способы осуществления аргументации в повседневном речевом общении, описываются характерные особенности речевого аргументативного поведения в различных возрастных группах.
Аргументация в речевой повседневности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наша позиция имеет много общего с пониманием В. фон Гумбольдтом языка как, прежде всего, языковой способности, которая, не будучи дана в готовом виде (в отличие от сравнения Ф. де Соссюра «Язык существует в коллективе как совокупность отпечатков, имеющихся у каждого в голове наподобие словаря, экземпляры которого, вполне тождественные, находились бы в пользовании многих лиц» (Соссюр 1997: 27)), взращивается каждым индивидом «изнутри» в опыте координации своего речевого поведения с поведением других членов того же коллектива людей, к которому принадлежит и сам индивид (Гумбольдт 1984).
Поскольку в контексте данной работы нас интересует, прежде всего, речевое общение в ракурсе повседневности, то обратимся к некоторым наиболее важным аспектам именного общения данной разновидности.
Анализируя модус повседневности, мы выделили, вслед за рядом исследователей, такую сущностную характеристику, как «эффект реальности»: имманентным данному модусу бытия является ощущение субъектом присутствия самого себя здесь и теперь, переживание реальности своего бытия и окружающего мира. В таком контексте РО как способ осуществления ориентирующего поведения приобретает еще и ценностную компоненту.
1.2.5. Ценностный аспект ориентирующей деятельности общения
М.М. Бахтин писал: «Каждая мысль моя с ее содержанием есть мой индивидуально-ответственный поступок, один из поступков, из которых слагается вся моя единственная жизнь как сплошное поступление, ибо вся жизнь в целом может быть рассмотрена как некоторый сложный поступок… Эта мысль, как поступок, цельна: и смысловое содержание ее, и факт ее наличности в моем действительном сознании единственного человека, совершенно определенного и в определенное время, и в определенных условиях, т.е. вся конкретная историчность ее свершения, оба эти момента, и смысловой, и индивидуально-исторический (фактический), едины и нераздельны в оценке ее как моего ответственного поступка. Но можно взять отвлеченно ее содержательно-смысловой момент, т.е. мысль как общезначимое суждение. Для этой смысловой стороны совершенно безразлична индивидуально-историческая сторона: автор, время, условия и нравственное единство его жизни – это общезначимое суждение относится к теоретическому единству соответствующей теоретической области, и место в этом единстве совершенно исчерпывающе определяет его значимость… Но для теоретической значимости суждения совершенно безразличен момент индивидуально-исторический, превращение суждения в ответственный поступок автора его. Меня, действительно мыслящего и ответственного за акт моего мышления, нет в теоретически значимом суждении. Значимое теоретически суждение во всех своих моментах непроницаемо для моей индивидуально-ответственной активности. Какие бы моменты мы ни различали в теоретически значимом суждении: форму (категории синтеза) и содержание (материю, опытную и чувственную данности), предмет и содержание, значимость всех этих моментов совершенно непроницаема для момента индивидуального акта-поступка мыслящего» (Бахтин 1994: 68).
Ту же изотему (по Ю.С. Степанову 2007) находим в концепции глубинного общения Г.С. Батищева (Батищев 1995). Считая, что само слово общение существенно дискредитировано тем атомистически-редукционистским содержанием, которое в него на протяжении многих лет вкладывала именно деятельностно ориентированная психология и философия марксистской направленности – целиком подводимый под один из аспектов одного из уровней деятельности процесс текстовых, жестовых и эмоциональных сообщений, циркуляция (прием и передача) информации, контакты-соприкосновения – Г.С. Батищев обозначает истинное глубинное общение термином «онто-коммуникация». В онто-коммуникации автор выделяет два основных процесса, организующих не просто со-прикосновение, но со-бытие общающихся, моделирование ими некого общего мира:
а) унаследование и извлечение субъектами из виртуального состояния все большей и большей бытийственной предобщности между собою и актуальное воссоздание, претворение ее в бытие;
б) со-творение и установление заново этой же самой общности между ними же в тех ее моментах, в которых она только и возможна как заново, свободно-креативно, «предначинательно» выбираемая каждым и как вводимая, а тем самым достраивающая собою виртуальную пред-общность.
Это – единство противоположностей пред-общности и вновь-общности, осуществляемое как незавершимое становление. Г.С. Батищев отмечает, что «онто-коммуникация неподводима ни под какую категорию, даже под максимально емкую, предельно обогащенную смыслом, многомерно понятую: деяние. Общение есть нечто гораздо большее, нежели любое деяние, ибо глубинность общения означает значимое участие в нем поистине громадных запороговых, не поддающихся распредмечиванию содержаний» (Батищев 1995).
В повседневном речевом общении функции структур пред-общности выполняют некоторые типизированные схемы, образцы, паттерны различной когнитивной природы, активизируемые в сознании представителей определенного национально-лингвокультурного сообщества словом и имеющие по большей части интерсубъектный характер благодаря сопричастности большинства членов социума определенному кругу культурных, социальных и речевых практик, позволяющих данной общности людей идентифицировать себя как таковую, отделить от других. Пожалуй, один из аспектов данного явления во французской культурологической традиции определяется термином mots à charge culturelle partagée — слова, фонетическая оболочка которых выполняет функции некой повозки, нагруженной доверху узелками, сундуками, чемоданами – ассоциациями, дополнительными смыслами, образами, содержимое которых известно большинству членов социума и составляет часть когнитивной базы данного лингвокультурного сообщества (Гудков 2003: 90).
Если подобная актуализация структур пред-общности по каким-либо причинам не происходит (таких структур нет или они малозначительны в силу принадлежности коммуникантов различным национально-лингвокультурным сообществам или по причине недостаточного уровня овладения родной культурой (культурой в широком смысле) либо отсутствия стратегии использования данных структур в коммуникативном арсенале говорящего) складывается коммуникативная ситуация, глубоко проанализированная в психологическом и философском аспектах Г.С. Батищевым: «Сообщение делается без расчета, без надежды на полноту понимания, а если это ненадеяние переходит в отчаяние и потом даже в привычку ко взаимонепониманию, то человек коммуницирует именно лишь ради того, чтобы отделиться от ответственной со-причастности, загородить, заслонить, загромоздить пустыми знаками удобную поверхность своей жизни и чтобы сквозь эту поверхность уже невозможно было бы пробиться, чтобы стала уже невозможна встреча в правде бытия-поступка. Психо-коммуникативные навыки превращаются в искусство замаскировывать и отсутствие реальной общности, и, что еще гораздо хуже, – устало-злое нежелание ее искать, к ней стремиться, становиться достойным ее. Никому себя не адресуя, человек отсутствует также и внутри самого себя» (Батищев 1995: 127).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: