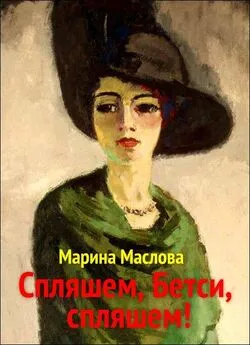Валентина Маслова - Введение в когнитивную лингвистику
- Название:Введение в когнитивную лингвистику
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89349-748-9, 978-5-02-033564-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентина Маслова - Введение в когнитивную лингвистику краткое содержание
Книга содержит актуальные знания по когнитивной лингвистике – направлению науки, родившемуся на рубеже тысячелетий. Важнейшим объектом исследования в когнитивной лингвистике является концепт. Это ментальная сущность, которая имеет имя в языке и отражает культурно-национальное представление человека о действительности. В пособии представлены категории культуры, которые заложены в концептах: пространство, время и число, правда и истина, дружба и радость и др.
Для студентов, аспирантов, преподавателей филологических факультетов вузов, а также представителей других гуманитарных специальностей.
Введение в когнитивную лингвистику - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В целом счастье русский человек оценивает не очень высоко, понимая его капризность, быстротечность: Счастье что волк: обманет да в лес уйдет; Счастью не верь, а беды не пугайся.
Как считает А.Д. Шмелев, счастье – это «когда человеку так хорошо, что он не испытывает дискомфорта из-за каких-то неудовлетворенных желаний» [Шмелев, 2003: 317].
РАДОСТЬ.И как концепт, и как именование чувства радостьплохо описана в русской и в мировой культуре [Степанов, 1997: 304]. По замечанию Г. Честертона, – это «неуловимая материя».
Радость, согласно четырехтомному словарю русского языка – «чувство удовольствия, удовлетворения» – пьянящая радость, светлая радость; «то, что доставляет радость» – Была у меня радость: любил меня хороший человек [Словарь, 1983: 581].
С точки зрения Д.Н. Ушакова, это – «чувство удовольствия, внутреннего удовлетворения, веселое настроение» (Толковый… т. 3). Сходные толкования даны и в других толковых словарях – С.И. Ожегова, 17-томном академическом. Их анализ позволяет заключить, что у чувства радости два основых признака: 1) внутреннее чувство, противопоставленное внешнему, физическому ощущению удовольствия и 2) веселое чувство. Радость не может выступать в позиции подлежащего.
Просматривается также двойственный характер данной лексемы – с одной стороны, он радостный, с другой – радостный день. Эта двойственность указывает на то, что концепт явления распределен между материальным объектом и внутренним состоянием человека. Следовательно, радость может обозначать как объективное явление, так и субъективное чувство. Она может быть беспричинной, беззаботной, бессознательной.
Поскольку словари русского языка толкуют слово радость настолько расплывчато, что его трудно разграничить со словом «счастье», можно рассмотреть, как трактуется это понятие у М. Цветаевой – одного из величайших национальных поэтов ХХ века. Ее отношение к выбору того или иного слова дает основание сделать вывод о бытовании этого чувства в русском языковом сознании. Не случайно Б. Пастернак в написанной еще в 1956 г. статье «Люди и положения» заметил: «В нее надо было вчитаться. Когда я это сделал, я ахнул от открывшейся мне бездны чистоты и силы. Ничего подобного нигде кругом не существовало… За вычетом Анненского и Блока и с некоторыми ограничениями Андрея Белого, ранняя Цветаева была тем самым, чем хотели быть и не могли все остальные символисты, вместе взятые» [цит. по: КатаеваЛыт-кина, 2002: 123].
Казалось бы, М. Цветаева – поэт смерти, разлуки, горя, и в ее творчестве нет места радости. На самом же деле у нее много светлого и радостного. В письме Е. Ланну от 6 декабря 1920 г. она писала: «Мне, чтобы жить – надо радоваться». Она умела вырвать радость у безумных дней, а как только разучилась это делать – ушла из жизни.
Ее ранние стихи пропитаны счастьем: О, как солнечно и как звездно начат жизненный первый том. В ее лирических текстах мы обнаружили более 100 контекстов употребления слов с семантикой «радость». Эти контексты классифицируются по двум параметрам: обозначение внутреннего состояния человека (радостное настроение) и материального мира, на который переносится состояние человека (радостный день). Причем, большинство контекств соответствует первому параметру.
М. Цветаева открывает мир в себе, радуется его свету, теплу и добру. Не случайно исследователи отмечают светлую тональность сборника «Юношеские стихи», в котором преобладают светлый, розовый, золотистый оттенки.
В целом поэтический текст М. Цветаевой характеризуется сильной экспрессией переживания и выражения чувств, аффективностью состояния лирической героини, страстностью ее поэтического «Я», что часто влечет за собой отказ от строгой классической ясности.
Согласно данным современной науки, человеческое «Я» многообразно: Я-физическое, Я-социальное, Я-интеллектуальное, Я-эмоциональное, Я-речемыслительное. Эти ипостаси Я имеют различные формы манифестации, например, Я-эмоциональное может проявляться в разных социально-психологических ролях. Например, цветаевская фраза Песня поется, как милый любится: // Радостно! – всею грудью! содержит следующие мысли: Я-физическое испытывает благоприятное воздействие радости, несомой песней; это знает ее авторское Я-интеллектуальное и посылает эту информацию собеседнику-читателю (Я-социальное), проявляя о нем заботу (Я-эмоциональное); посылая ему это сообщение, действует ее Я-речемыслительное. Воздействуя на любую ипостась личности, можно воздействовать на все остальные стороны личности адресата. Таким образом, языковая личность вступает в коммуникацию как многоаспектная, и это соотносится со стратегиями и тактиками речевого общения, с социальными и психологическими ролями автора и читателя, культурным смыслом информации, включенной в коммуникацию.
Человек познаёт окружающий мир, лишь предварительно выделив себя из этого мира, он как бы противопоставляет «Я» всему, что есть «не-Я». Таково, видимо, само устройство нашего мышления и языка. Радость в контексте поэзии М. Цветаевой – это чувство внутреннего «Я», ощущение внутреннего комфорта, возникающее в ответ на гармонию со средой и самим собой. Поэт, делясь своими открытиями с читателем, также противопоставляет себя миру, толпе, обывателю. И чем сильнее в нем неприятие мира, тем ярче воздействие на эмоции читателя.
В поэтическом тексте происходит взаимное усиление эмоций, вызываемых как формой, так и содержанием стихотворения. Л.П. Якубинский писал: «Совершенно ясно, что эмоции, вызванные звуками, не должны протекать в направлении, противоположном эмоциям, вызываемым «содержанием» стихотворения (и обратно), а если это так, то «содержание» стихотворения и его звуковой состав находятся в эмоциональной зависимости друг от друга» (Сборники, 1916, с. 25).
В поэтическом тексте имена чувств метафоризируются и ведут себя так, как если бы это был человек, поэтому негативные чувства способны мучить, как бы поедать человека: «Все во мне сейчас изгрызано, изъедено тоской» (М. Цветаева). Еще В.В. Виноградов писал о том, что чувства уподобляются жидкости, поэтому радость льется через край. Давно было замечено также, что все сильные чувства – огонь, жар: весь загорелся, объяснялся с жаром, гореть желанием, сгореть со стыда, пылать страстью, горячий спор, вспыхнуть, горячиться, жаркий спор. У Пушкина находим: Но в нас кипят еще желанья; Проснулись чувства, я сгораю; Страстей кипящих буйный пир. Эта истина, познанная предками, живет и поныне в нас, живет она и в творчестве М. Цветаевой: мука у нее способна зажечь душу (Как наши радости убоги / Душе, что мукой зажжена), а радость сама огнем пылает: Отпылала моя радость, отпылала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: