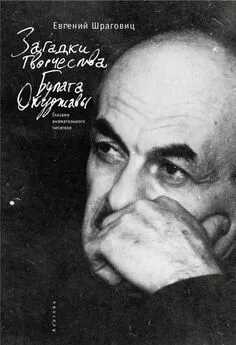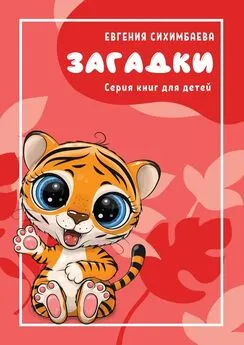Евгений Шраговиц - Загадки творчества Булата Окуджавы: глазами внимательного читателя
- Название:Загадки творчества Булата Окуджавы: глазами внимательного читателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алетейя»316cf838-677c-11e5-a1d6-0025905a069a
- Год:неизвестен
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9905979-3-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Шраговиц - Загадки творчества Булата Окуджавы: глазами внимательного читателя краткое содержание
В ходе анализа стихов Окуджавы, базирующегося на научных знаниях из области не только литературоведения, но и, например, философии и психологии, автор книги «расшифровывает скрытые смыслы» многих произведений, не замеченные критиками, раскрывает контексты творчества Окуджавы, остававшиеся невыявленными, в частности, обнаруживает перекличку произведений Окуджавы с текстами «последнего поэта Серебряного века» Георгия Иванова. Каждая глава книги посвящена стихотворению, песне или цепочке тематически близких стихов и песен. Среди них такие известные произведения Окуджавы, как «Неистов и упрям», «Комсомольская богиня», «Старый пиджак», «Шарманка-шарлатанка», «Ночной разговор», «Молитва», «Батальное полотно», «Белорусский вокзал», «Былое нельзя воротить» и другие.
Загадки творчества Булата Окуджавы: глазами внимательного читателя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А у Анненского в переводе упомянутого выше стихотворения Верлена «Я долго был безумен и печален…» [228]: «А сердце, плача, молвило ему: / „Ты думаешь, я что-нибудь пойму?”».
Согласно теории Канемана, в бодрствующем сознании функция постановки вопросов «закреплена» только за одной из двух систем, о которых он говорит, – логико-рациональной. Однако в состоянии сна эта система отключена, и действует только эмоционально-интуитивная система. Она сама задает вопросы и отвечает на них. Поэтому внутренний диалог в песне ведется на базе ассоциативной и эмоциональной памяти. За вопросом «Куда же мне ехать?» стоит полная потерянность «поэта», и в неспособности выбрать творческий путь он признается своему двойнику – «скептику». В предыдущих своих стихах о внутреннем разладе, «Старом пиджаке» и «Шарманке-шарлатанке», отношение «скептика» к «поэту» снисходительно-ироническое. Можно ожидать, что и в «Ночном разговоре» сохранится эта заложенная в эмоциональной памяти позиция, которая и определит ответы «скептика» на вопросы «поэта». Большая часть диалога в «Ночном разговоре» представляет собой мольбу «поэта» помочь ему найти свою дорогу, перемежаемую насмешливыми советами «скептика», и только в последней строфе становится видно, что «скептик» серьезно обеспокоен судьбой «поэта».
Вопрос: «Куда же мне ехать?», очевидно, извлеченный из ассоциативной памяти, где уже хранились такие стихи, как «Музыка», и ответ: «Вдоль Красной реки, моя радость, вдоль Красной реки, / до Синей горы, моя радость, до Синей горы», при всей абсурдности с бытовой точки зрения, вполне допустимы и объяснимы в сновидении. «Скептик» сообщает верховому якобы конкретные географические названия; об этом свидетельствуют заглавные буквы в определениях «Красный» и «Синий». Но в фольклорных текстах «красный» означает «красивый», а синие горы часто упоминаются в поэзии, так что «Красная река» и «Синяя гора» – это еще и обобщения, вроде «райских кущ». И эта обобщенность указывает на то, что, возможно, «скептик» ответил первое, что пришло на ум. Ответ ничем не может помочь «поэту» в разрешении проблемы – это банальность. Она отражает ироническое отношение «скептика» к вопросу; совет дается в самой далекой от практического смысла форме. Если «Ночной разговор» – стилизация сна, то Окуджава блестяще имитирует ассоциацию, которую мог породить такой вопрос во сне.
Согласно исследованиям психологов [229], спящий может вести «продолжительные и ясные диалоги» даже с бодрствующим собеседником, хотя не факт, что после пробуждения он их вспомнит. В полном соответствии с теорией сна, пытаясь создать связную гипотезу из поступающих данных, эмоциональная система генерирует новый вопрос в уже заданном былинно-песенном ключе. По сути, это просто расширенная первая реплика: «А как мне проехать туда? Притомился мой конь./ Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда?». Ирония была совершенно не замечена «поэтом». Ответ: «На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь,/ езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда» – явная отсылка к фразеологизму «путеводный огонь». Если понимать его аллегорически, то таким «огнем» можно назвать поэтический талант; следовательно, «скептик» намекает «поэту», что его дар должен указать ему дорогу. Следующие за этим сетования «поэта» на то, что «ясный огонь не горит», отражают страх, что талант покинул его, а фраза: «Сто лет подпираю я небо ночное плечом…», с одной стороны, указывает на то, что творческий метод «поэта» давно уже в работе, а с другой – на то, что проблемы художника вечны. Кроме того, оборот «сто лет» придает ситуации масштабы, характерные для былин, как и «плечо, подпирающее небо». При этом высказывание отражает накопленный негативный опыт решения конфликта. Ответ снова пронизан иронией: «Фонарщик был должен зажечь, да, наверное, спит,/ фонарщик-то спит, моя радость… А я ни при чем». Как мы уже отмечали, фонарщик тут – метафорическое обозначение вдохновения. И «скептик» говорит о том, что это не его вина, если талант «поэта» «спит». Мы уже говорили о параллели со «Старым пиджаком», где «скептик» выражает сомнение в том, что его полюбит Муза. Совершенно естественно, что ассоциативная и рациональная память автора «Старого пиджака» могла «вернуть» ему во сне фразу, введенную им потом в текст стихотворения. Следующие строчки: «И снова он едет один без дороги во тьму./ Куда же он едет, ведь ночь подступает к глазам!..» перекликаются со стихотворениями Жуковского и Пушкина [230]. В приведенных выше строках Окуджавы и следующем за ними вопросе: «Ты что потерял, моя радость?» – впервые «прорывается» нешуточное беспокойство «скептика» за судьбу «поэта». При этом они выглядят как комментарий «извне», произнесенный Окуджавой – автором стихов; в сновидении ситуация казалась ее участникам абсолютно естественной, а в последней строфе звучит вопрос, ставящий под сомнение логику событий. Реплика «скептика» в предпоследней строчке коррелирует с линией поведения рациональной личности в состоянии бодрствования. При этом тон вопроса остается ироническим, а по содержанию эта фраза напоминает приведенные выше строки из стихотворения «Музыка».
Мы уже говорили о том, что задавать осмысленные вопросы может только рационально-логическая система. А вопросы в стихотворении извлекаются из ассоциативной памяти, где они «записаны», и они обнаруживают полное непонимание спрашивающим поведения адресата. Источником предпоследнего вопроса тоже может служить ассоциативная память. Тогда и слова всадника, завершающие песню, «Ах, если б я знал это сам», эквивалентные эмоционально окрашенному, произнесенному с интонацией сожаления ответу «не знаю», могут быть получены из нее же: в ней хранятся строки из собственных текстов, стихотворение А. К. Толстого «Колокольчики мои, цветики степные» с его: «Конь несет меня лихой, – / А куда? Не знаю!»; «Песня» З. Гиппиус: «Мне нужно то, чего нет на свете». Таким образом, песня представляет собой внутренне цельное описание реального сна или стилизацию под сон, где развертываются проблемы, волновавшие Окуджаву в период ее сочинения.
В «Ночном разговоре», как и в других текстах Окуджавы со сходной тематикой, представлены «скептик» и «поэт», но «скептик», который, согласно ожиданиям читателя, представляет собой рациональное начало, в отличие от предыдущих случаев, в «Ночном разговоре» оказывается беспомощным, поскольку во сне у него нет рациональных аргументов, и он, отвечая, пользуется материалом из ассоциативной памяти, как и «поэт». Поэтому провести полноценный спор оппонентам не удается. А две последние реплики – это констатация неразрешимости конфликта.
Хотя и без полной уверенности, мы можем предполагать, что Окуджава, как профессиональный филолог и знаток поэзии, был знаком не только с источниками, приведенными выше, но и со многими другими [231].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: