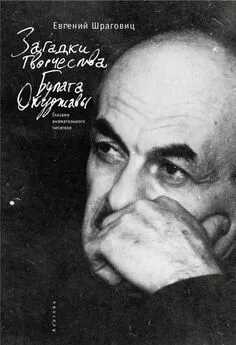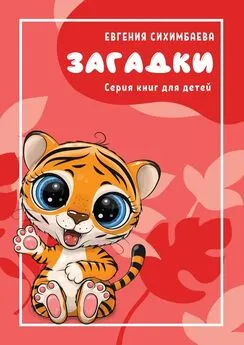Евгений Шраговиц - Загадки творчества Булата Окуджавы: глазами внимательного читателя
- Название:Загадки творчества Булата Окуджавы: глазами внимательного читателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алетейя»316cf838-677c-11e5-a1d6-0025905a069a
- Год:неизвестен
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9905979-3-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Шраговиц - Загадки творчества Булата Окуджавы: глазами внимательного читателя краткое содержание
В ходе анализа стихов Окуджавы, базирующегося на научных знаниях из области не только литературоведения, но и, например, философии и психологии, автор книги «расшифровывает скрытые смыслы» многих произведений, не замеченные критиками, раскрывает контексты творчества Окуджавы, остававшиеся невыявленными, в частности, обнаруживает перекличку произведений Окуджавы с текстами «последнего поэта Серебряного века» Георгия Иванова. Каждая глава книги посвящена стихотворению, песне или цепочке тематически близких стихов и песен. Среди них такие известные произведения Окуджавы, как «Неистов и упрям», «Комсомольская богиня», «Старый пиджак», «Шарманка-шарлатанка», «Ночной разговор», «Молитва», «Батальное полотно», «Белорусский вокзал», «Былое нельзя воротить» и другие.
Загадки творчества Булата Окуджавы: глазами внимательного читателя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Именно это стихотворение, очевидно, о многом говорило Окуджаве; уже в следующем, 1989 году, он пишет «К старости косточки стали болеть» [280], где в первых же строках звучит вопрос «Стоило ли воскресать и гореть?/ Все, что исхожено, что оно стоит?», а в последней строфе следует пессимистический ответ – и вновь является аллюзия на то же стихотворение Георгия Иванова: у Окуджавы: «Все, что мерещилось, в прах сожжено./ Так, лишь какая-то малость в остатке…», у Иванова: «Я верю… Не в музыку, что жизнь мою сожгла,/ А в пепел, что остался от сожженья». Из контекста ясно, что «гореть» у Окуджавы значит «творить поэзию» – то же самое означает у Иванова «музыка», сжигающая жизнь поэта и оставляющая после себя лишь пепел.
Однако стихотворение Георгия Иванова само может быть прочитано как отклик на предшествующий текст, написанный ровно на сто лет раньше (1850), – на «Два голоса» Тютчева [281].
Два голоса
Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы – молчат и оне.
Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги:
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;
Тревога и труд лишь для смертных сердец…
Для них нет победы, для них есть конец.
2
Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба.
Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто ратуя пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.
Это стихотворение Тютчева занимало в сознании Георгия Иванова важное место – прежде всего из-за его первого поэтического кумира Александра Блока, на которого этот текст произвел столь сильное впечатление, что он был дважды процитирован Блоком в дневнике [282]; Блок намеревался также использовать это стихотворение в качестве эпиграфа к драме «Роза и Крест» [283]. Самим Ивановым поэтический авторитет Тютчева декларирован в позднем (1957) стихотворении «Свободен путь под Фермопилами» [284]:
А мы – Леонтьева и Тютчева
Сумбурные ученики —
Мы никогда не знали лучшего,
Чем праздной жизни пустяки.
Итак, в двучастном стихотворении Тютчева два голоса выражают два миросозерцания: для первого голоса жизнь – безнадёжная борьба, всегда завершающаяся поражением (смертью), для второго гибель в борьбе – победа, несмотря на смерть, так что антитеза «победа или смерть» снимается. При этом, как отмечает по поводу этого стихотворения Ю. М. Лотман, «голоса дают семантические границы, внутри которых размещается поле возможных (зависящих от декламационной интерпретации и ряд других, принадлежащих уже читателю причин) истолкований. Текст не даёт конечной интерпретации – он лишь указывает границы рисуемой им картины мира» [285]. В сфере того, что не декларировано Тютчевым и оставляет простор воображению читателя, остаются, в частности, проблемы неизбежности и целей самой борьбы. При этом некоторые существенные признаки указывают, что оба поэта, Иванов и Окуджава, в анализируемых здесь текстах опирались на «Два голоса»: Иванов – напрямик, а Окуджава, вероятно, через Иванова. Применительно к стихотворениям Тютчева и Иванова это особенно очевидно: тематически оба о жизни и смерти, композиционно оба двухчастные, с двумя «голосами», словно спорящими друг с другом, – правда, двухчастное стихотворение Иванова не предлагает двух взаимоисключающих вариантов решения темы, как текст Тютчева: первая часть перекликается с тютчевским первым голосом, а вторая вступает в полемику со вторым голосом.
У Тютчева как победа, так и поражение в борьбе отделены от её смертельного исхода: в первом голосе «конец» соответствует самой невозможности победы («Для них нет победы, для них есть конец»). Образы первой части стихотворения Иванова рисуют ещё более трагическую картину, чем первый голос в стихотворении Тютчева, понятия поражения и смерти у Иванова сближаются. Так, метафора «пепел, что остался от сожженья» и рифма «пораженье-сожженье» связывают поражение со смертью, а «музыка», которая здесь символизирует поэзию, не спасает от гибели, но, напротив, несёт гибель, «сжигает» жизнь.
У Тютчева во втором голосе гибель не исключает победы («Кто, ратуя, пал, побеждённый лишь Роком,/ Тот вырвал из рук их победный венец»), однако, в обоих голосах смерть неизбежна. Стихотворение Тютчева позволяет читателю, не нарушая авторский замысел, понимать цель борьбы по-своему, например как победу над злом (это же происходит в первой части стихотворения Иванова: «Я верю не в непобедимость зла…») или даже как выигрыш в игре (как во второй части стихотворения Иванова: «Мне говорят: ты выиграл игру»), то есть и вторая часть стихотворения Иванова перекликается со вторым голосом Тютчева, как первая с первым. Итак, первые четыре строки Иванова описывают «борьбу» как многокомпонентную игру, возможно, являющуюся самой жизнью («Игра судьбы. Игра добра и зла./ Игра ума. Игра воображенья»), что не противоречит образной системе Тютчева, однако у Иванова выигрыш в игре оказывается мнимым и ненужным («…всё равно. Я больше не играю.»), у Тютчева же, напротив, поражение оборачивается победой.
Стало быть, хотя по видимости у Георгия Иванова, как и во втором голосе Тютчева, соседствуют победа (выигрыш) и смерть, смысл обоих стихотворений оказывается противоположен, а потому разительно различается и интонация. Стихотворение Тютчева героическое, персонажи его – боги и обобщённые смертные «други», а выраженная в стихотворении идея подразумевает гибель в борьбе за правое дело. Георгий Иванов, судя по тексту анализируемого стихотворения (и не только), к подобным идеям относился скептически: как отмечает Ю. Кублановский, «Г. Иванов безоглядно отказывается от геройства или хотя бы от бравады…» 1. Стихотворение его – от первого лица (недаром «я» появляется в трёх последних строках трижды), а смерть, о которой идёт речь, – смерть лирического героя, за которым угадывается автор. Характерно, что «допустим» вносит элемент неопределённое™ в последующее утверждение «как поэт я не умру», а союз «зато» усиливает последующее утверждение «как человек я умираю», то есть в утверждении, что автор заплатил жизнью за возможное (но лишь возможное) поэтическое бессмертие, доминируют трагичность и реальность смерти. И всё же, при всех различиях, Георгий Иванов отталкивался от тютчевских стихов точно так же, как Окуджава – от стихов Иванова, а призыв, звучащий во второй строфе Окуджавы, сближается с призывом второго голоса у Тютчева.
Круг поэтов, принимавших участие в этой интертекстуальной игре, в действительности шире, чем мы его определили вначале. Так, Иванов включил в своё стихотворение парафраз из пушкинского «Памятника» («Допустим, как поэт я не умру») [286], но ведь и Пушкин, как известно, воспользовался (через Державина) темой Горация… Кроме аллюзий на Тютчева, в рассматриваемом стихотворении Иванова можно заметить и перекличку со стихами И. Анненского: так, тема зеркал и отражений, возможно, связана с «Книгами отражений» и строками из «Миражей» («Пусть миражного круженья/ Через миг погаснут светы…/ Пусть я радость отраженья,/ Но не то ль ли вы, поэты?»), а еще одним возможным источником влияния является стихотворение З. Гиппиус «Зеркала повсюду». Кроме того, как уже отмечалось, понимание Ивановым музыки «говорит о типологическом родстве его системы не только с Анненским, но и с эстетикой символизма, воспринятой через Блока, Сологуба…» [287]; как уже упоминалось во вступлении, в этой перекличке заочно участвовал и Блок с его несостоявшимся эпиграфом из Тютчева.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: