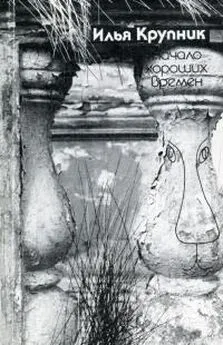Илья Кукулин - Машины зашумевшего времени
- Название:Машины зашумевшего времени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0245-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Кукулин - Машины зашумевшего времени краткое содержание
Эта книга — попытка заново выстроить историю русского модернизма через историю монтажа. Развитие монтажа в культуре XX века получило мощный импульс после изобретения кинематографа и превращения его в модный вид искусства. Аналоги киномонтажа в 1920‐е годы сложились в других видах искусств — литературе, плакатной графике, театре. У разных авторов и в разные периоды он используется то как локальный прием, то как последовательный метод, то как целостная эстетика. В 1930–2000‐е годы монтажные методы неоднократно изменяли свои функции и семантику. Следя за тем, как они от десятилетия к десятилетию то становятся почти незаметными, то вновь используются в самых разных контекстах, можно увидеть принципиально новые сюжеты в развитии искусства конца XIX–XXI веков, от Стефана Малларме до интернетных коллажей, составленных из блоговых заметок и видеозаписей. Эта книга рассказывает о том, как монтаж сначала стал «стилем эпохи» 1920‐х годов в самых разных странах (СССР, Германия, США…), а после все больше оказывался нужен неподцензурной словесности и «альтернативным» направлениям в кино и визуальном искусстве. Среди героев книги — Дзига Вертов и Артем Веселый, Сергей Эйзенштейн и Александр Солженицын, Эль Лисицкий и Саша Соколов, Энди и Лана Вачовски и Павел Улитин.
Машины зашумевшего времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Уже на излете «оттепели» на советские экраны вышел фильм, в котором связь монтажа и импровизационности выведена на уровень эстетики — «Айболит-66» (1967) Ролана Быкова, снятый по сценарию режиссера и Вадима Коростылева. В первой части фильма в кадре постоянно присутствует съемочная группа, сам сюжет разыгран как творящаяся на глазах зрителя импровизация — но остраненная изощренным монтажным построением и необычными ракурсами съемки. Экран меняет форму — становится то узким, то более широким. Дети-актеры кладут на пол голубые ленты и с их помощью изображают волны — но как только хор за кадром несколько раз пропевает «магические» слова «И море всерьез, и корабль всерьез!», на следующем же кадре Айболит и его друзья плывут на «настоящем» паруснике по реальному морю.
В каждом из перечисленных случаев — фильмы Гайдая, Ромма и Быкова — монтаж имеет различный историко-стилистический смысл. Так, в фильме Быкова, в отличие от Ромма и Гайдая, монтаж служит принципиальному уравниванию социальной реальности и мира игры и поэтому может быть охарактеризован как постмодернистский. Однако, хотя вопрос об исторической типологии монтажа в целом важен для моей книги, здесь необходимо обратить внимание на то, что сближало, а не разделяло использование монтажа у этих трех режиссеров. Этот метод был у них так или иначе специально мотивирован: у Гайдая и Быкова — откровенной эксцентрикой, у Ромма и Гайдая — отсылками к эстетике раннего кино (у Гайдая — к немой комедии с ее условными типажами, у Ромма — к фильмам Шуб и, возможно, Дзиги Вертова), у Быкова — пародийными аллюзиями на новейшие тогда эксперименты европейского кинематографа, прежде всего — фильм Фредерико Феллини «Восемь с половиной» («Otto e mezzo», 1963). Однако в «оттепельном» СССР был вид искусства, в котором монтажные принципы использовались чаще, чем в кино, но при этом без специальных мотивировок. В поэзии приемы, эквивалентные киномонтажу, стали в 1960-е годы в первую очередь знаком современности — во всяком случае, для подцензурных авторов.
«Легальные шестидесятники» в поэзии
Монтажная эстетика в литературе 1960-х была представлена несколькими, ранее не использовавшимися в этой функции приемами. Наиболее характерным из них была приблизительная рифма — или «корневая ударная рифма», как ее назвали в статье-манифесте 1959 года учившиеся тогда в Литинституте поэты Юрий Панкратов и Иван Харабаров [632](после публикации их опуса, где рифма провозглашалась одним из главных показателей новизны в поэзии, остряки в московских писательских кругах говорили, что самая авангардная рифма сегодня — это рифма «Панкратов — Харабаров» [633]).
Сложные, составные, неточные рифмы, ориентированные на традицию Маяковского, использовали поэты, начинавшие в конце 1930-х (М. Кульчицкий, М. Луконин, Н. Глазков и другие), — тогда эти рифмы отсылали к продолжению революционно-футуристической поэтики вопреки «затвердеванию» новой литературной догмы. В этом кратком и эскизном обзоре нет возможности обсуждать особенности приблизительной рифмовки 1960-х годов, тем более что на материале подцензурной поэзии их уже обследовали Д. С. Самойлов, позже — М. Л. Гаспаров, который добавил к изучаемым текстам стихотворения И. А. Бродского [634]. Здесь необходимо отметить только один важнейший аспект «новой» рифмовки — она нарочито «денатурализовала» течение стиха, которое в подцензурной поэзии 1940–1950-х годов должно было ощущаться как «естественное» [635], — потому тогда в ней преобладали рифмы точные или основанные на усечении; вторые уже в 1960-е воспринимались как старомодные [636], а первые — как стилистически маркированные, «не-современные». На эту же «денатурализацию» работали многочисленные, подчеркнутые, часто навязчивые аллитерации в стихотворениях «шестидесятников».
Таким образом, в 1950–1960-е приблизительные рифмы стали знаком продолжения революционной традиции, или, пользуясь риторикой, заданной XX съездом КПСС, «возвращения к ленинским нормам» — но приобрели гораздо более явную, чем в конце 1930-х, коннотацию — раскрепощения литературы, расширения границ дозволенного, намеренной игры с читателем, «сопряжения далековатых идей» [637]. Впечатление раскрепощенной звуковой игры создавалось паронимической аттракцией и метафоническими заменами, инверсиями и пропусками согласных в рифмующих словах.
Она была первой, первой, первой
Кралей в архангельских кабаках.
Она была стервой, стервой, стервой,
С лаком серебряным на коготках.
Что она думала, дура, дура,
Кто был действительно ею любим?
…Туфли из Гавра, бюстгальтер из Дувра
И комбинация с Филиппин.
Состав с арбузами
пришел из Астрахани!
Его встречают
чуть ли не с астрами!
Студенты — грузчики
такие страстные!
Летают в воздухе
арбузы страшные,
и с уважением
глядит милиция
и на мэитовца
и на миитовца.
Я — Горе.
Я — голос
войны, городов головни на снегу сорок первого года.
Я — Голод.
Я — горло
повешенной бабы, чье тело, как колокол, било над площадью голой…
Я — Гойя!
Я Мерлин, Мерлин.
Я героиня
самоубийства и героина.
Как видно из приведенных примеров, неточная рифма в поэзии 1960-х несла повышенную смысловую нагрузку: она призвана была подчеркивать антонимичность, смысловой контраст или, наоборот, сближение (по принципу паронимической аттракции) рифмующих слов; см. в цитатах из Евтушенко: «кабаках — коготках», «дура — Дувра», «Астрахани — астрами», «страшные — страстные», «милиция — миитовца», из Вознесенского: «горе — голос — голод — горло — голой — Гойя», «героиня — героина». В поэзии конца 1950-х — начала 1960-х постоянно использовались рифменные сопоставления литературного слова — с жаргонизмом и просторечием и вообще слов из разных стилистических регистров. Функционально «новая» рифма была подобна кинематографическому монтажному стыку.
Монтажную природу имели и другие приемы поэзии «легальных шестидесятников», в частности описание события или объекта через набор броских, эффектных образов-«кадров» — как, например, в обращении к аэропорту в стихотворении Андрея Вознесенского «Ночной аэропорт в Нью-Йорке» (1961) [642]:
Как это страшно, когда в тебе небо стоит
в тлеющих трассах
необыкновенных столиц!
[…]
В баре, как ангелы, гаснут твои
алкоголики,
ты им глаголешь!
[…]
Ждут кавалеров, судеб, чемоданов, чудес…
Пять «Каравелл» [643]
ослепительно
сядут с небес!
Пять полуночниц шасси выпускают устало.
[…]
Стонет в аквариумном стекле
небо,
приваренное к земле [644].
Интервал:
Закладка: