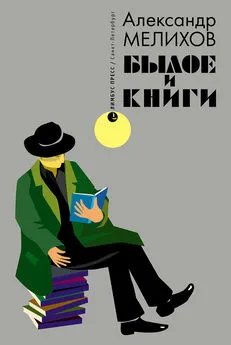Александр Мелихов - Былое и книги
- Название:Былое и книги
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-8392-0582-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мелихов - Былое и книги краткое содержание
В этой книге известный прозаик Александр Мелихов предстает перед читателем в качестве независимого критика – одного из немногих, не превратившихся в орудие рекламы или продвижения какой-то литературной группировки. Он привлекает внимание к достойным, но недооцененным писателям и систематически развенчивает дутые репутации, не останавливаясь ни перед какими авторитетами. Разных авторов и непохожие книги он сталкивает лбами в рамках одного эссе, неизменно яркого, точного и удивляющего новизной взгляда даже в тех случаях, когда речь идет о классиках и современных звездах. «Былое и книги» расставляет вехи и дает ответы на вопросы, что читать, зачем читать и как читать.
Былое и книги - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Зато трудящихся так называемого цивилизованного мира он романтизировал без берегов. Этот «новый король» (трудящиеся, трудящиеся!) – «самое ошеломляющее порождение самой высокой цивилизации нашего мира, и лучшее, и достойнейшее. Только наше столетие, только наша страна, только наш уровень цивилизации могли породить его. Подлинные жизненные знания, которыми он владеет, – а только знания дают божественное право на власть – результат полученного им опыта, в сравнении с которым образованность королей и аристократии, веками правивших им, – детский лепет, не стоящий внимания. Сумма его познаний, собранных из тысячи недавно родившихся новейших профессий со всеми их подразделениями, требующих напряженной, точной, сложной работы, физической и умственной, от миллионов людей, – эта сумма познаний так огромна, что по сравнению с ней сумма всех человеческих познаний в любую предшествующую эпоху, вплоть до рождения старейшего из тех, кто здесь присутствует, – все равно что пруд по сравнению с океаном или холмик по сравнению с Альпами».
Это верно, если к трудящимся отнести не только рабочих, чаще всего действующих механически по чужому плану, но еще и инженеров, чьи коллективные познания и впрямь простирались от железных дорог и доменных печей до телефонов и электрических ламп. Правда, каждому из них в отдельности открывалась (и открывается) лишь малая часть этого океана, а что еще хуже, инженерные познания порождают собственные формы профессионального идиоти… пардон, редукционизма – один моделирует человека по образу и подобию двигателя внутреннего сгорания, другой по образу и подобию радиоприемника подобно тому, как это было в рассказе Марка Твена «Мои часы»: один часовщик предлагает подкинуть часам подошвы, другой – спустить пары. Последним писком технического редукционизма была кибернетика (уподобление человека компьютеру), а этология, сводящая человека к стадному животному, и по сей день еще не прискучила.
Прежней аристократии было так высоко не взлететь, но она, если говорить об идеальной ее миссии, чувствовала себя ответственной за общественное целое, а потому была менее склонна обменивать будущее государства на сиюминутные выгоды. Именно аристократии-то и не хватает современному демократическому обществу, однако Марк Твен замечал лишь ее доходы и видеть не желал принесенные ею жертвы – прежде всего на поле брани. Даже интересно, успел ли яростный американский народник прочесть «Войну и мир» графа Толстого: «Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно будет… – Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: – А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет… стыдно! – взвизгнул он».
В отношении к монархии Марк Твен доходил до комической повторяемости. Когда другой народник Николай Чайковский собирал в Америке средства на русскую революцию, как вскоре выяснилось, первую и, увы, не последнюю, Марк Твен посчитал своим долгом «плеснуть в его кратер холодной воды». А именно: «наше христианство, которым мы издавна гордимся – если не сказать кичимся, – давно уже превратилось в мертвую оболочку, в притворство, в лицемерие»; «мы утратили прежнее сочувствие к угнетенным народам, борющимся за свою жизнь и свободу»; «мы либо холодно-равнодушны к подобным вещам, либо презрительно над ними смеемся». Чайковский возразил, что всего два-три месяца назад американцы в мгновение ока собрали на русскую революцию два миллиона долларов – тогда это было очень прилично, – однако великого скептика купить не удалось: «Эти деньги собрали не американцы, их собрали евреи; значительную долю этой суммы внесли богатые евреи, но все остальные деньги дали русские и польские евреи Ист-Сайда, то есть горькие бедняки. Евреи всегда отличались благожелательностью. Чужое страдание всегда глубоко трогает еврея, и, чтобы облегчить его, он способен опустошить свои карманы. Они придут на ваш митинг, но, если там появится хоть один американец, посадите его под стекло и показывайте за деньги».
Сам пламенный скептик на митинг прийти не смог, однако на митинге зачитали его письмо, тут же напечатанное в «Нью-Йорк Таймс» под шапкой «ОРУЖИЕ, ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ РОССИЮ»: «Россия уже слишком долго терпела управление, строящееся на лживых обещаниях, обманах, предательстве и топоре мясника, – и все во имя возвеличивания одного-единственного семейства бесполезных трутней и его ленивых и порочных родичей».
М-да, юмор здесь окончательно перемолот пафосом, великий борец с машиной внутри человека словно оказался затянут в пропагандистскую машину революционной пропаганды. Неужто прокладываются железные дороги, льется сталь, пишутся романы и научные формулы, поются арии и лечатся болезни исключительно ради возвеличивания одного семейства?.. Пытался ли апологет трезвости хотя бы прикинуть, какая доля национального дохода уходила на содержание семейства трутней? Нет, пафосу не до скучных цифр.
В 1906 году Марк Твен писал: «Вот уже два года, как ультрахристианское царское правительство России официально устраивает и организует резню и избиение своих еврейских подданных».
Национализм – от финских хладных скал до экзистенциальных союзов
Йохан Людвиг Рунеберг, шведскоязычный финляндский Пушкин, ушедший из жизни на сорок лет позже главного русского гения, в своем гимне Финляндии «Наш край» страстно напирал именно на ее бедность: «Наш бедный край угрюм и сер», «Убогий край родной» («Россия, нищая Россия»). Но – «На все способен мой народ, // В годину общих бедствий. // К победе армия идет // Во имя финской чести» («Сказания фенрика Штоля»). Фенрик – низший офицерский чин, отнюдь не столь жалкий, как русский фендрик; рунеберговский фенрик способен ценить доблесть и в противнике, он исполняет настоящую оду русскому генералу Кульневу, во время Русско-шведской войны 1808–1810 годов отличавшемуся не только храбростью, но и гуманностью по отношению к пленным и мирному населению, за что получил отдельную благодарность и от императора.
А вот как Рунеберг изображает приют убогого чухонца эпохи декабристов: «Изба его не много просторнее бани, но по виду и предметам своим совершенно подобна ей, этой единственной и необходимой для него статье роскоши. Внутренность избы представляет посетителю странную картину. Стены и пол, сколоченные из нетесаных бревен и досок сосновых, черны как уголь – первые от дыму, последний от всего, что в течение многих лет напрасно ожидало отмывки. Редко видна крыша: ее заслоняет облако дыма, которое темно-серой пеленой висит на высоте 7 или 8 футов и служит покровом, не обращаясь в тягость… Окон нет, кроме волоковых, в которых доску можно по произволу отодвигать и задвигать».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: