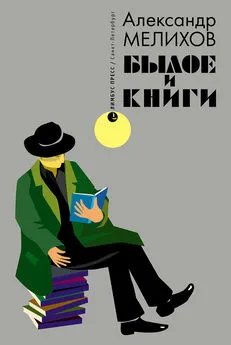Александр Мелихов - Былое и книги
- Название:Былое и книги
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-8392-0582-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мелихов - Былое и книги краткое содержание
В этой книге известный прозаик Александр Мелихов предстает перед читателем в качестве независимого критика – одного из немногих, не превратившихся в орудие рекламы или продвижения какой-то литературной группировки. Он привлекает внимание к достойным, но недооцененным писателям и систематически развенчивает дутые репутации, не останавливаясь ни перед какими авторитетами. Разных авторов и непохожие книги он сталкивает лбами в рамках одного эссе, неизменно яркого, точного и удивляющего новизной взгляда даже в тех случаях, когда речь идет о классиках и современных звездах. «Былое и книги» расставляет вехи и дает ответы на вопросы, что читать, зачем читать и как читать.
Былое и книги - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А смешной попик из рассказа «Рыбья самка», которому на старости лет изменила глупая жена, и вовсе прямо в церкви отдает себя на заклание: «Не могу примириться и признать власти Советов. Ибо от них великий блуд и колебание устоев». В 1921 году автор, видно, недостаточно еще отчаялся насчет человеческого рода.
А Николай Никитин еще, видимо, не отчаялся насчет снисходительности советской власти. Всеобъемлющий Вольфганг Казак так аттестует его в своем «Лексиконе»: «Как писатель непролетарского происхождения, он долгое время подвергался критике. Со временем его умение приспосабливаться к партийной линии выросло и было отмечено Сталинской премией за роман “Северная Аврор а”» – об оккупации Русского Севера, где досталось еще и космополитам.
Зато в его «Рвотном форте», несмотря на некоторый налет инда взопревших озимых («чесаным снежным льном забух лес, подмигивает, поскрипывает, и под солнцем вдруг щелканет ухарски»), кипят любовные и политические страсти, заостренная карикатурность которых придает им даже символический оттенок. И вдруг кипение окидывается взором воистину в мировом масштабе: «И если издали кому-нибудь станет страшно и, жалея нас, он задаст нам вопрос о цели нашей жизни – мы сможем ответить одно: а разве должна быть непременно цель? Кому какое дело?
Мы живем, потому что живо солнце, и умрем, как падающие по осеням синие звезды. Ибо не только у нас, но и на всей земле кипят тоска и радость, убийства и рождения лишь до тех пор, пока люди согреты солнечным теплом. <���…> Пролагатели новых колей так же вязнут в промоинах, ибо хоть выверни землю овчиной наружу, не та же ли будет земля?»
Грубая, древняя, примитивная «жизнь по природе» неизмеримо могущественнее революционных фантазий, словно бы твердят авторы сборника – исключая, впрочем, Вениамина Зильбера, будущего Каверина. В его рассказе «Одиннадцатая аксиома» левая сторона страницы не ведает, что делает правая: на правой монах страдает от безверия, на левой студент продувается в карты – рассказ «представляет немалый интерес с точки зрения общей теории сюжета», комментирует это раздвоение страницы Лев Лунц, которого после такого заявления легко принять за пустотелого умника, которому без выпендрежа и сказать нечего.
Однако его трагедия «Вне закона» – синтез Шварца и Шиллера – впечатляюще демонстрирует обратное.
Веселого разбойника Алонсо Энрикеса объявляют вне закона. Ах так, разворачивает он знамя бунта, пусть же тогда и вовсе не будет законов, кроме законов чести! Однако разлившееся беззаконие порождает такое кровавое бесчинство («вот что будет без законов: пожар, убийства и кровь»), что ставит благородного мечтателя перед необходимостью восстановить хотя бы один чин – для того единственного, кому можно верить: для себя самого. Чин диктатора или, в символическом мире, герцога, взирающего на народ как на дикого зверя: «Кричи, кричи, грабь, жги, убивай! Довольно побегал на свободе. Завтра утром я выйду на площадь с хлыстом в руке».
Зверям нужен укротитель, и я буду им. Ведь если не я, так придет другой, худший, все равно придет. Пусть не говорят мне, что я бесчестный человек. Я – вне закона. Герцог должен быть вне закона. У герцога не должно быть чести.
Вчерашний демократ еще утешает себя, что бесчестье власти необходимо для блага народа, и если во имя этого блага нужно разделаться с надоевшей женой, то следует это сделать без колебаний: «Да, убил. И не раскаиваюсь. Эта женщина мешала мне. Что делать, если женщина мешает спасению целого государства? Всю жизнь я отделывался от нее шутками, но теперь время шуток прошло. Не буду больше смеяться. Герцог не должен смеяться».
Весельчак Алонсо, которому после победы сделалось не до шуток, погибает по романтическому канону – от кинжала своей любовницы, признанной им непригодной в качестве супруги герцога, но постигнутые им законы удержания власти остались жить и побеждать. Они-то и дают ответ, почему все авторы воскресшего сборника, кому была суждена довольно долгая жизнь в советской литературе, или оказались отодвинуты на ее обочину, а то и за, или были вынуждены перекраситься в пятьдесят оттенков серого: время шуток прошло.
Федин, например, так долго просидел в литературных президиумах в качестве даже и не знаю кого (во всяком случае, не герцога, ибо самостоятельно он ничего не решал), так запомнился почти сусловским унылым аскетизмом, что глаза отказываются опознать его имя перед наполненным колоритнейшими земными подробностями рассказом «Савел Семенович». Савел Семенович – безупречный палач, умеющий без сучка, без задоринки вешать и бунтовщиков и «экспроприаторов», однако и он не лишен кое-каких человеческих слабостей – любви к узорчатым подтяжкам и любви к певчим птичкам. Он и Бога-то благодарил в своих молитвах исключительно за то, что Он не отнял у него любви к птицам, иначе и молитвы бы потеряли всякий смысл. И хотя жизнь в рассказе изображена дореволюционная, она все равно выглядит такой плотной, такой плотской, такой жесткой, жестокой и жестоковыйной, что все равно наводит на ту же мысль: переделать ее ой как нелегко, если только вообще возможно.
И это написал будущий герой Соцтруда, лауреат Сталинской премии, четырежды кавалер ордена Ленина, не говоря о прочей мелочовке…
А мы еще гадаем, как так Шолохов после «Тихого Дона» не написал ничего даже отдаленно равноценного! Совершенно ничего удивительного. Перечитайте раннего и позднего Фадеева, Эренбурга, Тихонова, Прокофьева, даже Заболоцкого, даже Зощенко, даже Платонова, и увидите – это многих славных путь. Почти норма.
Облака забвения
«Западную Германию наполнило облако раскаяния – прежде чем там наступил экономический расцвет», – когда-то писал смиренный Солженицын в укор жестоковыйным соотечественникам, и все-таки «На примере брата» Уве Тимма (М., 2013) – едва ли не первая по-настоящему честная книга из всех, что мне пришлось читать об этом облаке. Ибо Уве Тимм пишет не о туманных, как облако, «грехах отцов», но о грехах собственного отца и собственного старшего брата, носившего домашнее прозвище Кудряш. Автор много лет не решался прочесть отрывочные записи и письма Кудряша с Восточного фронта, страшась и увидеть причастность брата к истреблению мирного населения (брат пошел добровольцем в войска СС), и не увидеть об этом ничего как о не стоящем упоминания, – в конце концов сбылось второе опасение: евреи в дневнике вообще не упоминаются, а русские, хоть сколько-нибудь отделившиеся от неразличимой массы, упоминаются лишь однажды: «75 м от меня Иван курит сигареты, отличная мишень, пожива для моего МГ».
Зато бомбардировки родного Гамбурга сразу пробуждают его чувствительность: «Просто в голове не укладывается, чтобы 80 % Гамбурга сровняли с землей, у меня, хоть я тут всякого навидался, слезы стояли в глазах. <���…>
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: