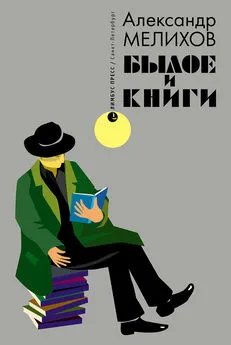Александр Мелихов - Былое и книги
- Название:Былое и книги
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-8392-0582-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мелихов - Былое и книги краткое содержание
В этой книге известный прозаик Александр Мелихов предстает перед читателем в качестве независимого критика – одного из немногих, не превратившихся в орудие рекламы или продвижения какой-то литературной группировки. Он привлекает внимание к достойным, но недооцененным писателям и систематически развенчивает дутые репутации, не останавливаясь ни перед какими авторитетами. Разных авторов и непохожие книги он сталкивает лбами в рамках одного эссе, неизменно яркого, точного и удивляющего новизной взгляда даже в тех случаях, когда речь идет о классиках и современных звездах. «Былое и книги» расставляет вехи и дает ответы на вопросы, что читать, зачем читать и как читать.
Былое и книги - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Рассчитывать на себя означает прежде всего претворять нужду в добродетель, начинать гордиться тем, за что тебя презирают, использовать историю своего народа ровно в тех же целях, в которых ее используют другие народы, – в качестве сырья для создания чарующего образа самого себя. Ну, положим, сам Жаботинский употреблял слово «самопознание», хотя чем лучше как индивид, так и народ познает себя, тем меньше имеет поводов собой гордиться, однако из смысла его призывов совершенно ясно, что познавать он предлагал прежде всего высокое в своей истории, а низкое – уравновешивать тем низким, которого более чем достаточно и в гордых собой великих народах.
И которым «мы», евреи, никогда не будем по-настоящему интересны в качестве союзников – нас слишком мало. Самое большее, мы можем оказаться им нужны для какого-то красивого пропагандистского жеста – символические жесты, понимал Жаботинский, едва ли не важнее реальных дел в нашем мире, всегда воодушевляющемся какими-то фантомами. Поэтому горстка евреев, принимающих участие в Первой мировой войне на стороне Англии против Турции, способна подтолкнуть Англию принять серьезную декларацию о некотором праве евреев на турецкую Палестину.
Но ведь это очень опасно: вдруг Антанта проиграет? Не проиграет. Почему вы так уверены? Потому. А что будет с евреями, которые живут в странах прогерманской ориентации?! Ничего не поделаешь, надо рисковать. Для блага народа. Для блага народа и рабочие должны отказаться от борьбы за свои права, пока не будет построено национальное государство.
Он бесил и ассимиляторов, и сионистов-«постепеновцев», и сионистов-социалистов, а когда наконец исчерпывались все рациональные аргументы, он прибегал к последнему, по его мнению, самому главному: потому. Я так считаю. И этого мне достаточно.
В итоге он постоянно оказывался не просто отверженцем, но временами прямо-таки врагом сионистского мэйнстрима и умер в Нью-Йорке в 1940 году почти в полном одиночестве, успев убедиться в том, что оправдались самые худшие его опасения, но еще не узнав, в каких невообразимых размерах.
В 1964 году его прах в точном соответствии с его завещанием (то есть по постановлению правительства Израиля) был захоронен в Иерусалиме рядом с могилой Герцля, которому Жаботинский лишь однажды был мимолетно аттестован будущим израильским президентом Вейцманом в качестве болтуна, мелющего чепуху, – так что, можно сказать, Жаботинский победил.
Но какой же урок мы можем извлечь из его победы? Не нужно бояться восстать одному против всех, если ты уверен в своей правоте, на чем настаивал сам Жаботинский? Нет, пишущий эти строки убежден, что в социальном мире невозможно быть правым ни в одиночестве, ни вместе со всеми: социальный мир трагичен и не допускает ничьей правоты. Не нужно страшиться риска, если уверен в будущем? Нет, в нашем трагическом мире ни в каком будущем нельзя быть уверенным. И уж был бы Жаботинский каким-нибудь и впрямь сверхчеловеческим логиком, каким он старается предстать в своей публицистике, – так нет же, из его воспоминаний явствует, что он такой же обормот, как и все мы, простые смертные, такая же игрушка иррациональных страстей и фантазий.
Да, впрочем, он и сам не преувеличивает идеологичности своих мотивов: «Нельзя обратить человека в “сионизм”… Если это и случается, то только с теми, у кого и раньше в душе была капля сионистского яду, только прежде не замеченная. Это – тот самый яд, чья примесь, у других народов, при других условиях, создает ушкуйников, пограничников, авантюристов: людей, которым отроду не по сердцу взбираться по готовым ступенькам, а хочется и лестницу выстроить самим».
Словом, никакой неколебимой убежденности – ни в своей правоте, ни в своей прозорливости – принципы автора этих строк никак не позволяют одобрить. Победителей не судят лишь лакеи, и если даже кому-то удалось унести из казино миллионное состояние, это еще не означает, что игра в рулетку есть разумная коммерческая деятельность.
И все-таки… Все-таки приятно читать о тех, кто победил, – хотя бы и волей случая. Приятно хоть изредка расслабиться и получить удовольствие.
Вот только был ли Жаботинский победителем в полном смысле этого слова, хотя бы посмертным? Ведь на склоне своих не слишком долгих дней он признал конечной целью своей деятельности не просто создание еврейского независимого государства, а «то, во имя чего, в сущности, существуют великие нации, – создание национальной культуры, которая будет излучать свой свет на весь мир».
Ощущает ли сегодняшний мир на себе этот свет? Не было ли еврейство в рассеянии более уникальным и «светоносным» культурным явлением, нежели еврейство «нормализованное»? Похоже, Жаботинский никогда об этом не задумывался, отвечать на этот вопрос предстоит нам и нашим потомкам.
Перчатка брошена
О художественных особенностях исполинского романа Максима Кантора «Учебник рисования» (М., 2006), своим объемом оставившего хотя и недалеко, но позади «Войну и мир», говорить, по-видимому, наивно – роман явно задумывался с превентивным презрением ко всяческим цеховым литературным условностям. У нас в высокодуховной России регулярно выходят в свет сенсационные романы, которые стремятся быть выше литературы, представляя собою, так сказать, кусок дымящейся совести, напрямую, от сердца к сердцу, взывающей к совести читателя, – романы «Мать», «Доктор Живаго», «Чего же ты хочешь?», «Красное колесо»… И всё нужные книги, что тут еще скажешь.
Блистательные эссе о живописи, которыми автор предваряет каждую из сорока пяти глав, не оставляют сомнений в том, что он на редкость глубоко понимает и любит свое высокое ремесло. Но – в соответствии с его же собственной концепцией, о которой речь впереди, – в колониях дозволяется значительно больше, чем в метрополии. Хотя у автора в запасе имеется индульгенция и для живописцев, которые пожелают поставить свой великий замысел выше цеховых условностей: «Великого художника от хорошего профессионала отличает оби лие ошибок – он не боится великих жестов».
Намек поняли и приняли. Максим Кантор не побоялся великого жеста, и за это честь ему и хвала. Он еще раз продемонстрировал, что масштаб личности автора, то есть масштаб проблем, которыми он живет, действительно способен во многом компенсировать ущерб, нанесенный художественными пробелами, чтобы не сказать провалами. Ибо недостаточно художественные фрагменты текста – это просто-напросто те, которые создают у читателя ощу щение скуки и фальши (эти подружки обычно ходят парой).
Я не хочу употреблять столь условные выражения, как «целостность композиции», «стилевое единство», – почему бы и впрямь не сложить вместе, подобно тому как это делается в справедливо ненавидимых М. Кантором инсталляциях, гротеск Анатоля Франса, логику Платона и пламенную энциклопедичность Солженицына? Что за беда, если у Анатоля Франса ирония равно проливает свои лучи на чистых и нечистых, а у М. Кантора его альтер эго, художник Павел Рихтер, не имеет ни единой смешной или унизительной черточки, тогда как его противники только из них и состоят, – почему бы античного героя с картины Давида не поместить среди карикатур Домье? – хуже то, что переносить почти что и нечего: у главного героя нет тела, у него никогда не болит живот, не чешется спина…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: