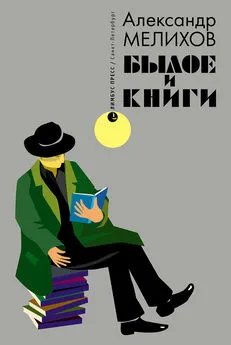Александр Мелихов - Былое и книги
- Название:Былое и книги
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-8392-0582-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мелихов - Былое и книги краткое содержание
В этой книге известный прозаик Александр Мелихов предстает перед читателем в качестве независимого критика – одного из немногих, не превратившихся в орудие рекламы или продвижения какой-то литературной группировки. Он привлекает внимание к достойным, но недооцененным писателям и систематически развенчивает дутые репутации, не останавливаясь ни перед какими авторитетами. Разных авторов и непохожие книги он сталкивает лбами в рамках одного эссе, неизменно яркого, точного и удивляющего новизной взгляда даже в тех случаях, когда речь идет о классиках и современных звездах. «Былое и книги» расставляет вехи и дает ответы на вопросы, что читать, зачем читать и как читать.
Былое и книги - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В Михайловском саду, что за Русским музеем, в ту пору действовал круглосуточный митинг, близ которого патриотические художники выставляли картины простодушного, но могучего содержания: отвратительная еврейская Юдифь, бешено хохоча, держит меж фиолетовых ляжек страдальческую голову русского витязя, жирные загривки в ермолках на фоне Уолл-стрит склоняются над кротким Кремлем, приступая к нему с ножами, словно к торту… Народ подходил, сумрачно вглядывался – и тянулся к людям, к животворящему слову.
И отвергнутые живописцы вновь удалились в катакомбы, в пустыни, в пещеры…
Впрочем, если даже авангардисты составляют вовсе и не авангард, но лишь обоз, если они всего лишь шуты новых финансовых цезарей, это еще не отменяет опасности либерального фашизма: «Если убеждение в том, что твое общество является вершиной развития человечества и ничего лучшего не существовало в природе, становится массовым убеждением; если идея расширения собственного общества до масштабов мира как безальтернативная концепция истории делается привычной для слуха и усвоена толпой как истина, – это значит, что общество находится во власти определенной идеологии, и идеология, организующая людей таким образом, называется фашизмом.
Тот факт, что сегодняшний вид фашизма именуется демократией и оперирует либеральной терминологией, – не меняет в принципе ничего».
Что ж, отчасти верно, я и сам люблю повторять, что фашизм есть стремление относительно простой части общества подмять под себя многосложное целое, в основе фашизма лежит стремление к простоте. Но это лишь в первом приближении. Для второго же требуется превращение насилия из вспомогательного в основное средство; помимо монополии на социальную истину по отношению к внешнему миру фашизму желателен еще и культ общественного целого и его вождя во внутреннем, но… М. Кантор умеет мимоходом ставить вопросы настолько глубокие, что для каждого из них требуется отдельная статья.
Однако сам-то его герой на чьей стороне – ведь несмотря на то, что во власти и бизнес-элите сплошные христопродавцы, народ-то ведь тоже отнюдь не сеятель и хранитель, о нем скорее можно отозваться примерно теми же словами, какими Блаженный Августин характеризовал младенцев: они только слабы, но оттого не менее порочны. «Я на стороне живописи», – говорит Павел Рихтер, однако ведь и это не что иное, как стремление поставить свои корпоративные интересы выше интересов общественного целого? И выше интересов народа, если под ним понимать лишь униженных и оскорбленных? Хотя, по мнению Павла (героя романа, не апостола), служить адвокатом народа перед властью – в этом и заключается главное назначение интеллигенции. То самое назначение, которому она, либеральная интеллигенция, изменила, решившись однажды служить самой себе.
Нет, я не прав – живопись Павла Рихтера страстно протестует против пиршества хищников и паразитов, по крайней мере, пытается, хотя и тщетно, испортить им аппетит. И все-таки действительно ли это главное дело интеллигенции – служить наиболее беспомощным слоям населения? Не приблизила ли русскую катастрофу 1917 года именно эта склонность интеллигенции ставить интересы наиболее бедных и наименее образованных слоев выше долгосрочных интересов общественного целого? Может быть, более возвышенной миссией было бы аристократическое служение трагически противоречивому целому, откликающееся и запросам завтрашних гениев, и нуждам сегодняшних пенсионеров?
Но… Чувствовать ответственность за все, не имея силы ни на что, чрезвычайно трогательно с этической точки зрения, однако малоплодотворно с практической. Не лучше ли и впрямь математикам оставаться на стороне математики, медикам – на стороне медицины, художникам – на стороне живописи, а писателям – на стороне литературы? Тем более что серьезное отношение к искусству неизбежно наводит и на вопросы социальной справедливости, которая, увы, не сводится к заботе о слабых: отряд, интересующийся только отставшими, далеко не уйдет, равно как и наука, более всего озабоченная тем, чтобы быть усвоенной ментальными инвалидами. Ведь даже и противостоять новым крестоносцам, новым римлянам, если таковые существуют, могут тоже только сильные, а не слабые… Что же до защиты слабых, то в адвокатах нуждаются не одни лишь слабые индивиды, но и слабые общественные потребности. И потребности слабых социальных групп как раз являются чрезвычайно сильными – это, как правило, нужды первой необходимости, о которых надолго забыть не решится никакая власть. А вот потребности науки, искусства – о них позаботиться почти что и некому, кроме кучки бескорыстных энтузиастов, не обладающих никакой статистически уловимой электоральной силой. Поэтому групповой эгоизм этих идеалистов уж никак не менее простителен, чем эгоизм рабочих, крестьян и пенсионеров.
В конце концов М. Кантор протестует против того, чтобы разной мерой мерить сильных и слабых, – почему же лицом западного мира он считает его шарлатанское искусство, а лицом мира российского – состояние провинциальных дорог и поликлиник: уж тогда и нас нужно судить по нашей культуре и в таком случае тоже считать ее делом первостепенной важности. Вот гуманист и романтик Сент-Экзюпери не убоялся написать, что бедность и грязь не так страшны, как то, что в младенце погибнет Моцарт. И что, разве это недостаточно высокая миссия – быть адвокатом неразвившегося Моцарта?
«Учебник рисования» при всех его художественных пустотах имеет шансы сделаться книгой эпохальной в том смысле, что наиболее удобно обсуждать острейшие вопросы эпохи может оказаться именно в формулировках М. Кантора. А кроме того, роман – чрезвычайно провокативный вызов либеральному лагерю: о национальном поражении и мировой закулисе говорит уже не беззубый ветеран и не партийный функционер, но высокообразованный, глубокий и достаточно признанный Западом художник – трудно сделать вид, что им тоже движут невежество, зависть, тупое русофильство или карьерная корысть. Ему требуется ответить очень серьезно.
И лучше как минимум на таком же художественном уровне, какого достигает М. Кантор на своих лучших страницах – вершины пафоса всегда достигаются в монологе, вершины живописи – в гротеске. И это нормально для романа обличительного. Но где тот позитив, который могли бы противопоставить ему сами объекты обличения, интеллектуалы-западники? Где те воодушевляющие образы их самих и будущего их мира, которые могли бы насытить сердца растерянных и оскорбленных?
Если образ либерального мира и его творцов перестал чаровать сердца художников – это симптом чрезвычайно грозный… Искусство если и не зеркало, то очень чувствительный индикатор жизнеспособности того, что принято называть социальной идеей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: