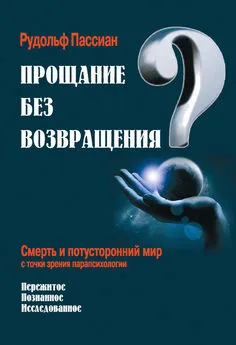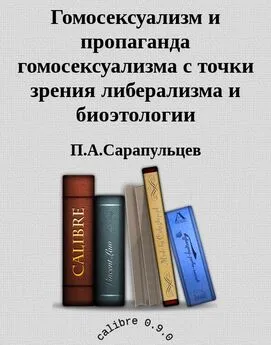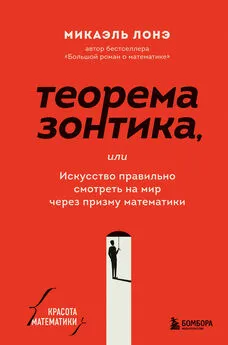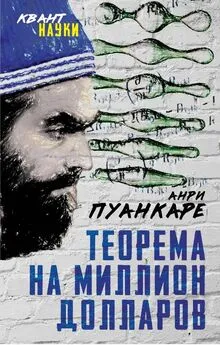Жюль Пуанкаре - Теорема века. Мир с точки зрения математики
- Название:Теорема века. Мир с точки зрения математики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алгоритм
- Год:2020
- Город:М.
- ISBN:978-5-907255-12-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жюль Пуанкаре - Теорема века. Мир с точки зрения математики краткое содержание
Автор теоремы, сводившей с ума в течение века математиков всего мира, рассказывает о своем понимании науки и искусства. Как выглядит мир, с точки зрения математики? Как разрешить все проблемы человечества посредством простых исчислений? В чем заключается суть небесной механики? Обо всем этом читайте в книге!
Теорема века. Мир с точки зрения математики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Настало время для справедливой оценки этих преувеличений. Я не надеюсь убедить упомянутых математиков: слишком долго дышали они своей атмосферой. Да и, кроме того, если вы опровергли одно из их доказательств, вы можете быть уверены, что оно возродится лишь в слегка измененном виде. Некоторые из доказательств уже несколько раз возрождались из пепла, наподобие той лернейской гидры [27] Чудовищная девятиголовая змея, которая, как говорят древнегреческие мифы, жила в Лернейском болоте. На месте отрубленных голов у нее вырастали новые. – Прим. ред .
, у которой вырастали новые головы. Геркулес выпутался из затруднения, потому что его гидра имела девять голов, если не одиннадцать; но здесь слишком много голов: они имеются в Англии, в Германии, в Италии, во Франции, и Геркулес должен был бы отказаться от состязания. Я обращаюсь поэтому только к непредубежденным людям, обладающим здравым смыслом.
В последние годы появилось много трудов, посвященных чистой математике и философии математики, имевших своей задачей выделить и изолировать логические элементы математического рассуждения. Эти труды были ясно изложены и исследованы в работе Кутюра, озаглавленной: «Основания математических наук».
По мнению Кутюра, новейшие труды, в особенности работы Рассела и Пеано, окончательно разрешили давний спор между Лейбницем и Кантом. Они показали, что не существует синтетического априорного суждения (этим именем Кант называл суждения, которые не могут быть ни доказаны аналитически, ни сведены к тождествам, ни установлены экспериментально); они показали, что математические науки целиком могут быть сведены к логике и что интуиция не играет в них никакой роли.
Все это Кутюра изложил в названном выше сочинении. Еще отчетливее высказал он это в речи, произнесенной на юбилее Канта, высказал так убедительно, что мой сосед сказал вполголоса: «мы видим ясно, что истекло столетие со дня смерти Канта».
Можем ли мы подписаться под этим решительным приговором? Я этого не думаю и постараюсь ниже показать, почему я этого не думаю.
Что нам сразу бросается в глаза в новой математике, так это ее чисто формальный характер. «Вообразим, – говорит Гильберт, – три рода вещей, которые мы назовем точками, прямыми и плоскостями; условимся, что прямая будет определяться двумя точками, и вместо того, чтобы сказать, что данная прямая определяется данными двумя точками, мы будем говорить, что она проходит через эти две точки или что эти две точки расположены на этой прямой». Что это за вещи, мы не только не знаем, но и не должны стремиться узнать. Нам этого не нужно, и всякий, кто никогда не видел ни точки, ни прямой, ни плоскости, так же легко мог бы построить геометрию, как и мы. Слова «проходят через» или «расположены на» не должны вызывать у нас никакого образа, ибо первые являются синонимом слова «определяться», вторые – синонимом слова «определять».
Таким образом, для доказательства теоремы не нужно и даже бесполезно знать, что она хочет сказать. Геометра можно было бы заменить «логической машиной», выдуманной Стенли Джевонсом. Или, если угодно, можно было бы выдумать машину, в которую через один конец были бы введены аксиомы, а в другом конце ее были бы собраны теоремы, наподобие той легендарной машины в Чикаго, в которую вкладывают живых поросят и из которой извлекают окорока и сосиски. Математик, как и эта машина, отнюдь не должен понимать, что он делает.
Я не ставлю в вину Гильберту этот формальный характер его геометрии. Он должен был прийти к ней, разрешая ту проблему, которую он себе ставил. Он хотел довести до минимума число основных аксиом геометрии и перечислить их все без остатка. Но в тех суждениях, в которых наш ум обнаруживает активность, в которых интуиция еще играет роль, трудно отделаться от внесения постулата или аксиомы, которые незаметно входят в суждение. Лишь в случае, если бы все геометрические суждения приняли чисто механическую форму, Гильберт мог бы быть уверенным в том, что он исполнил свое намерение и успешно закончил свою задачу.
То, что Гильберт сделал в геометрии, другие захотели сделать в арифметике и в анализе. Однако если бы они в этом даже и успели, то разве кантианцы были бы осуждены на полное молчание? Может быть, и нет, ибо когда мы сообщаем математической мысли пустую форму, эта мысль, конечно, подвергается искажению. Допустим даже, что удалось установить, что все теоремы могут быть выведены из конечного числа аксиом путем чисто аналитических приемов, путем простых логических комбинаций, и что эти аксиомы суть не что иное, как соглашения. Философ, однако, сохранил бы за собой право исследовать происхождение этих условий и определить, почему эти условия оказались предпочтительными перед противоположными им.
Кроме того, не одна только логическая правильность суждений, ведущих от аксиом к теоремам, должна нас занимать. Разве вся математика исчерпывается правилами совершенной логики? Это было бы все равно как если бы мы сказали, что все искусство шахматного игрока сводится к правилам хода пешек. Из всех построений, которые могут быть скомбинированы из материалов, доставляемых логикой, нужно сделать выбор. Настоящий геометр и производит этот выбор здраво, руководствуясь верным инстинктом или же некоторым смутным сознанием о – я не знаю какой именно – более глубокой и более скрытой геометрии, которая одна и составляет ценность воздвигнутого здания.
Искать происхождение этого инстинкта, изучать законы этой глубокой геометрии, которые чувствуются, но словесно не формулируются – вот прекрасная задача для философов, которые не допускают, что логикой исчерпывается все. Но не на эту точку зрения хочу я стать, не так хочу я ставить вопрос. Инстинкт, о котором мы только что говорили, необходим изобретателю, но на первый взгляд кажется, будто при изучении уже созданной науки можно обойтись и без него. И вот я хочу исследовать, можно ли, приняв однажды принципы логики, я уж не говорю открыть, но даже доказать все математические истины, не прибегая снова к интуиции.
На этот вопрос я однажды уже дал отрицательный ответ (см. «Наука и гипотеза», глава I). Должен ли я этот ответ изменить ввиду появившихся новых трудов? Если я в то время ответил отрицательно, то это потому, что «принцип совершенной индукции» казался мне, с одной стороны, необходимым для математика, а с другой стороны, не сводимым к логике. Известно, что этот принцип заключается в следующем.
«Если какое-либо свойство справедливо относительно числа 1 и если установлено, что оно справедливо относительно числа n + 1, коль скоро оно справедливо относительно числа n , то оно будет верно для всех целых чисел».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: