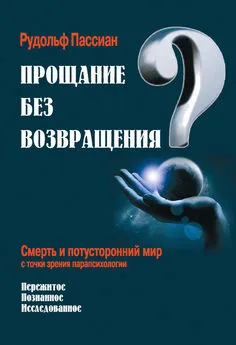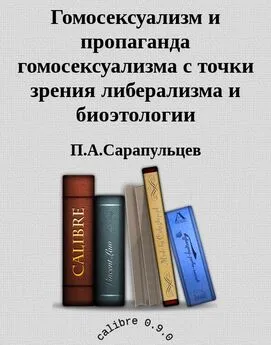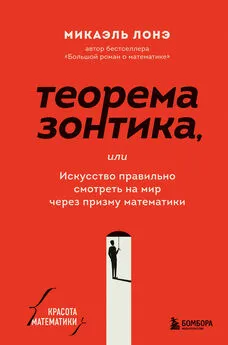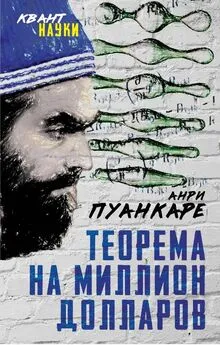Жюль Пуанкаре - Теорема века. Мир с точки зрения математики
- Название:Теорема века. Мир с точки зрения математики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алгоритм
- Год:2020
- Город:М.
- ISBN:978-5-907255-12-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жюль Пуанкаре - Теорема века. Мир с точки зрения математики краткое содержание
Автор теоремы, сводившей с ума в течение века математиков всего мира, рассказывает о своем понимании науки и искусства. Как выглядит мир, с точки зрения математики? Как разрешить все проблемы человечества посредством простых исчислений? В чем заключается суть небесной механики? Обо всем этом читайте в книге!
Теорема века. Мир с точки зрения математики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вообразим теперь, что вдруг через эту систему проходит с огромной скоростью массивное тело, пришедшее из отдаленных созвездий. Все орбиты окажутся сильно возмущенными. Но это еще не очень смутило бы наших астрономов; они догадались бы, что это новое светило является единственным виновником всего зла. Стоит ему удалиться, – сказали бы они, – и порядок восстановится сам собой; конечно, расстояния планет от Солнца уже не станут вновь такими же, какими они были до катастрофы, но когда не будет более возмущающего светила, орбиты снова станут круговыми. И только тогда, когда возмущающее тело было бы уже далеко, а орбиты, вместо того чтобы опять стать круговыми, превратились бы в эллиптические, – только тогда эти астрономы заметили бы свою ошибку и необходимость переделать всю свою механику.
Я несколько подробнее остановился на этих гипотезах, потому что, как мне думается, уяснить себе содержание нашего обобщенного закона инерции можно, только сопоставляя его с противоположным допущением.
Мы возвращаемся теперь к этому обобщенному закону инерции. Спрашивается, проверен ли он в настоящее время на опыте, и возможно ли это вообще? Когда Ньютон писал свои «Начала» [7] Newton . PhiIosophiae Naturalis Principia Mathematica, 1686. Русский перевод: И. Ньютон. Математические начала натуральной философии / Пер. А. Н. Крылова // Собрание трудов академика А. Н. Крылова, Т. VII. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1936. – Прим. ред .
, он смотрел на эти истину как на выработанную и доказанную экспериментально. Таковой она была в его глазах не только благодаря антропоморфному представлению, о котором речь будет дальше, но благодаря трудам Галилея; она была таковой и в силу законов Кеплера; действительно, согласно этим законам траектория планеты полностью определяется ее начальными положением и скоростью; а это как раз то, чего требует наш обобщенный принцип инерции.
Чтобы этот принцип оказался истинным только по внешнему виду, чтобы можно было опасаться, что когда-нибудь он будет заменен одним из принципов, которые я сейчас противопоставлял ему, пришлось бы допустить, что мы введены в заблуждение какой-нибудь удивительной случайностью вроде той, которая в развитом мною выше примере ввела в заблуждение наших воображаемых астрономов.
Подобная гипотеза слишком неправдоподобна, чтобы на ней останавливаться. Никто не поверит в возможность таких случайностей. Конечно, вероятность того, чтобы два эксцентриситета были как раз равны нулю (в пределах погрешностей наблюдения), не меньше, чем вероятность того, чтобы один был равен, например, 0,1, а другой 0,2 (тоже в пределах погрешностей наблюдения). Вероятность простого события не меньше вероятности сложного; и тем не менее, когда такое простое событие наступает, мы не согласимся приписать его случайности; мы не захотим верить, что природа умышленно ввела нас в заблуждение. Устраняя гипотезу о возможности заблуждений такого рода, мы можем признать, что, поскольку дело касается астрономии, наш закон был проверен на опыте.
Но астрономия еще не составляет всей физики. Не можем ли мы опасаться, что какой-нибудь новый опыт когда-нибудь обнаружит несостоятельность закона в том или другом отделе физики? Экспериментальный закон всегда подвержен пересмотру; мы всегда должны быть готовы к тому, что он может быть заменен другим законом, более точным.
Однако никто не выражает серьезных опасений, что закон, о котором идет речь, когда-нибудь придется отклонить или исправить. Почему же? Именно потому, что его никогда нельзя будет подвергнуть решающему испытанию.
Прежде всего, для полноты такого испытания было бы необходимо, чтобы по истечении известного времени все тела Вселенной вернулись вновь к своим начальным положениям и к своим начальным скоростям. Тогда мы увидели бы, примут ли они с этого момента вновь те траектории, по которым они уже следовали один раз.
Но такое испытание невозможно: его можно осуществить только в отдельных частях и при этом всегда будут тела, которые не вернутся к своему начальному положению; таким образом, всякое нарушение этого закона легко найдет себе объяснение.
Но это не все: в астрономии мы видим тела, движения которых изучаем, и мы в большинстве случаев допускаем, что они не подвержены действию других тел, которых мы не видим. Таковы те условия, в которых проверяется наш закон.
В физике дело обстоит не совсем так: если в основе физических явлений и лежит движение, то это – движение молекул, которых мы не видим. В таком случае, если ускорение одного из видимых тел представится нам зависящим от чего-то иного, кроме положений или скоростей других видимых тел или невидимых молекул, существование которых мы должны были допустить раньше, то ничто не помешает нам допустить, что это что-то иное есть положение или скорость других молекул, присутствия коих мы до сих пор не подозревали. Закон окажется спасенным.
Я позволю себе на минуту воспользоваться математическим языком, чтобы выразить ту же мысль в иной форме. Я допускаю, что мы наблюдаем n молекул и констатируем, что их 3 n координат удовлетворяют системе 3 n дифференциальных уравнений четвертого порядка (не второго, как того требовал бы закон инерции). Мы знаем, что, вводя 3 n вспомогательных переменных, мы можем свести систему 3 n уравнений четвертого порядка к системе 6 n уравнений второго порядка. Тогда стоит допустить, что эти 3 n вспомогательных переменных представляют координаты n невидимых молекул, и результат снова окажется в согласии с законом инерции.
Итак, этот закон, проверенный экспериментально в некоторых частных случаях, может быть без опасения распространен на самые общие случаи, так как мы знаем, что в этих общих случаях опыт уже не может ни подтвердить его, ни быть с ним в противоречии.
Закон ускорения. Ускорение тела равно действующей на него силе, деленной на его массу.
Можно ли проверить на опыте этот закон? Для этого нужно было бы измерить три величины, входящие в его выражение: ускорение, силу и массу.
Отвлекаясь от трудности, связанной с измерением времени, допустим, что возможно измерить ускорение. Но как измерить силу или массу? Мы не знаем даже, что это такое.
Что такое масса ? Это, отвечает Ньютон, произведение объема на плотность. Лучше сказать, возражают Томсон и Тэт, что плотность есть частное от деления массы на объем. Что такое сила ? Это, отвечает Лагранж, причина, производящая или стремящаяся произвести движение тела. Это, скажет Кирхгоф, произведение массы на ускорение . Но тогда почему не сказать, что масса есть частное от деления силы на ускорение.
Эти трудности непреодолимы. Определяя силу как причину движения, мы становимся на почву метафизики, и если бы таким определением пришлось удовольствоваться, оно было бы абсолютно бесплодно. Чтобы определение могло быть к чему-нибудь пригодно, оно должно научить нас измерению силы; к тому же этого условия и достаточно; нет никакой необходимости, чтобы определение научило нас тому, что такое сила сама по себе, или тому, есть ли она причина или следствие движения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: