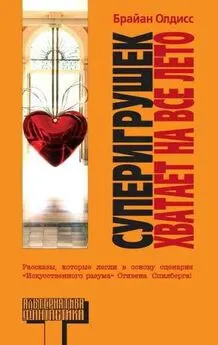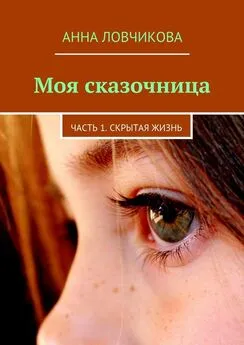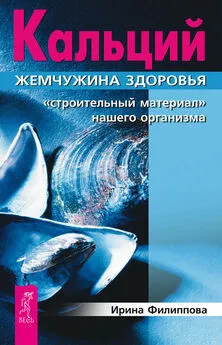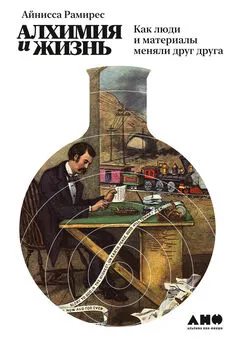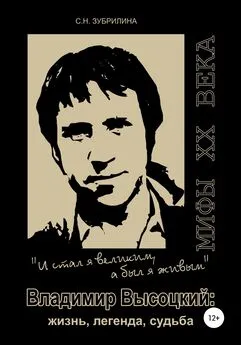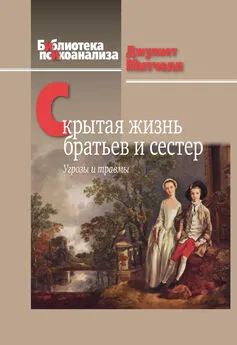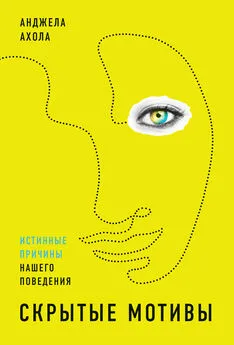Брайан Свитек - Кости: скрытая жизнь [Все о строительном материале нашего скелета, который расскажет, кто мы и как живем]
- Название:Кости: скрытая жизнь [Все о строительном материале нашего скелета, который расскажет, кто мы и как живем]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-102897-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Брайан Свитек - Кости: скрытая жизнь [Все о строительном материале нашего скелета, который расскажет, кто мы и как живем] краткое содержание
Кости: скрытая жизнь [Все о строительном материале нашего скелета, который расскажет, кто мы и как живем] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Опубликованная в 1927 году, его книга стала итоговым результатом шестнадцати месяцев исследований посмертной судьбы животных в Луизиане, Оклахоме и Техасе. Интересовали его, однако, не бедные на окаменелости местные горные породы, а современные животные. Ученый раздумывал о прошлом, пытаясь найти ответ на вопрос, который не давал Вейгельту покоя, когда он рассматривал музейные коллекции ископаемых. «Как умерли все эти животные? — спрашивает он в своей книге. Что случилось с ними, прежде чем они оказались заключены в породу? Какие именно условия позволили им сохраниться в столь большом количестве?» Как оказалось, разложение и сохранение останков определялись множеством изменчивых случайных факторов. На судьбу тела после смерти влияло все подряд: от времени года до того, как быстро оно было погребено, и каждые окаменелые останки сохранились благодаря уникальному стечению случайных обстоятельств. Чтобы в этом разобраться, Вейгельт принялся отслеживать все, начиная от обстоятельств смерти — извержение вулкана, землетрясение, смерть во льдах — и заканчивая тем, что происходит с телом под воздействием стихий в зависимости от того, сколько времени прошло до его погребения.
Так зародилась тафономия — наука на грани жизни и смерти, или, как частенько говорят про нее палеонтологи, наука «о том, что происходит между смертью и обнаружением» [169] Так зародилась тафономия: Weigelt, Johannes. Recent Vertebrate Carcasses and Their Paleobiological Implications. Chicago: University of Chicago Press, 1989.
. Специалисты, например Анна Кей Беренсмайер, продолжили исследования, пытаясь понять, что процесс разложения тела может сказать об этом существе и о среде его обитания. Анализируя события в обратном хронологическом порядке, мы можем мысленно восстановить судьбу скелета до момента его погребения в породе, а то и до смерти самого животного. Отсюда мы также можем двигаться вперед во времени, чтобы понять, что случится с нашими собственными останками.
Первым делом стоит рассмотреть, что вообще способно превратиться в окаменелость. Смерть безжалостно уничтожает информацию, крупица за крупицей. ДНК начинает разрушаться сразу же после смерти организма, со временем распадаясь на все более мелкие обрывки. Даже в самых идеальных условиях, например в случае смерти в холодной и темной пещере, гены внутри клеток неизбежно разрушаются, и от них в итоге мало что остается. На самом деле ДНК, содержащаяся в костях, распадается с относительно постоянной скоростью, подобно тому, как радиоактивные минералы постепенно превращаются в инертные, с периодом полураспада примерно 521 год [170] На самом деле ДНК: Allentoft, Morten, Matthew Collins, David Harker, James Haile, Charlotte L. Oskam, Marie L. Hale, Paula F. Campos, et al. «The half-life of DNA in bone: measuring decay kinetics in 158 dated fossils». Proceedings of the Royal Society B 279, no. 1748 (2012): 4724–4733.
. Это означает, что спустя пять столетий в костях остается примерно половина изначально имевшейся ДНК даже при идеальных условиях, и математика нам подсказывает, что с таким темпом весь генетический материал в костях полностью разрушается примерно за шесть миллионов лет. Огромный период, если сравнивать его с продолжительностью человеческой жизни, однако в масштабах истории это довольно быстро. Таким образом, хотя ДНК в костях действительно сохраняется в течение долгого времени после смерти, наши гены — подобно нашей плоти — недолговечны и распадаются день за днем, пока от них ничего не остается. Поэтому нет никакой надежды, что кто-нибудь воскликнет «Бинго! ДНК динозавра!», изучая тираннозавра или его собратьев по мезозою. Генетический материал попросту не может сохраняться так долго, так что птицы — это ближайшие родственники велоцираптора, которых мы когда-либо сможем увидеть. Тем больше причин наблюдать за воронами с восхищением и соблюдая дистанцию.
Существуют и другие, более абстрактные вещи, которым тоже сложно стать окаменелостью. Возьмем, к примеру, интеллект. Черепа и слепки мозга могут поведать нам об анатомии отделов головного мозга и их размере, однако они ничего не расскажут о том, какие интеллектуальные способности скрывались в этих мягких тканях. Похожая история и со звуком, который можно восстановить по окаменелостям лишь при строго определенных обстоятельствах. Хотя в мире и имеется как минимум одиннадцать прекрасно сохранившихся скелетов археоптерикса — первой птицы, — которые содержат все, от костяных колец в глазах до оперения, нам ничего неизвестно о строении ее глотки. Даже имея в распоряжении такую информацию, мы вряд ли поняли бы, как именно она издавала звук, и было бы практически невозможно достоверно определить, пела ли эта первая птица, каркала, шипела или вообще предпочитала молчать. Звук переживает эпохи только тогда, когда он образуется определенными структурами тела. Именно так обстояло дело с кузнечиком возрастом 165 миллионов лет по имени Archaboilus musicus, который стрекотал, потирая бугристым краем одного крыла о другое [171] Именно так обстояло дело: Gu, Jun-Jie, Fernando Montealegre-Z, Daniel Robert, Michael S. Engel, Ge-Xia Qiao, and Dong Ren. «Wing stridulation in a Jurassic katydid (Insecta, Orthoptera) produced low-pitched musical calls to attract females». PNAS (2012): 1–6.
. Благодаря безупречной сохранности окаменелости палеонтологам удалось воссоздать звуки, издаваемые насекомым при своей жизни в юрском периоде. К сожалению, я не членистоногое, у меня нет аналогичных структур, так что я не смогу оставить в своем теле информацию о том, как звучал при жизни.
С цветами похожая проблема. Палеонтологам удается восстановить цвет ископаемых животных лишь в исключительных случаях, когда попадаются в нетронутом виде крошечные органеллы — меланосомы в перьях, мехе и других телесных покрытиях. Эти структуры придают животным окрас, отражая свет определенного спектра, от огненно-рыжего до переливающегося черного, в зависимости от их распределения и плотности. На самих окаменелостях цвета не остается — чаще всего они выглядят для наших современных глаз темно-серыми, — однако, сравнивая распределение меланосом в древних перьях и у современных птиц с известным окрасом, мы можем вычислить, какого цвета были динозавры мезозойской эры. Меланосомы обнаружились даже в чешуйчатой коже и броне динозавров мелового периода. Сложно сказать, сможет ли кто-нибудь восстановить мою цветовую гамму, но я знаю, что она не сравнится с багровыми шипами бронированного Borealopelta, да и пользы от нее явно меньше, чем от камуфляжа крохотного рогатого динозавра Psittacosaurus.
В процессе сохранения неизбежно что-то теряется. Вопрос лишь в том, в какой момент этот процесс останавливается. Если взять тело любого позвоночного, то различные его части будут вырваны падальщиками, изъедены насекомыми и разрушены бактериями, не считая последствий воздействия осадков и ветра. Если учесть, сколько всевозможных факторов стремятся разрушить прижизненные формы животных, то удивительно, что до нас вообще дошли хоть какие-то окаменелости.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Брайан Свитек - Кости: скрытая жизнь [Все о строительном материале нашего скелета, который расскажет, кто мы и как живем]](/books/1061366/brajan-svitek-kosti-skrytaya-zhizn-vse-o-stroitel.webp)