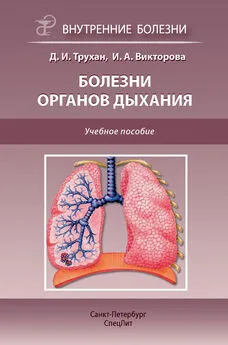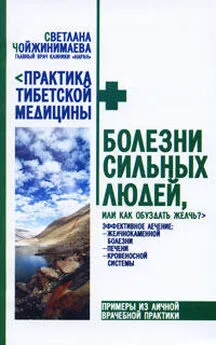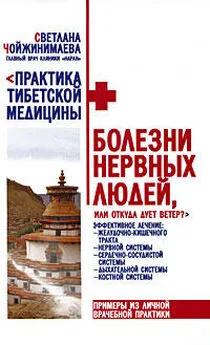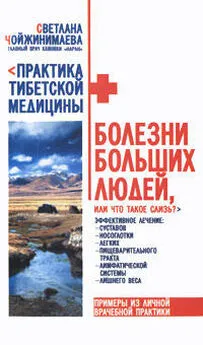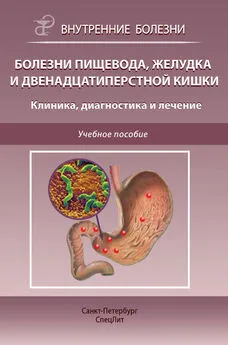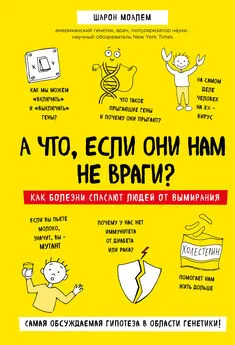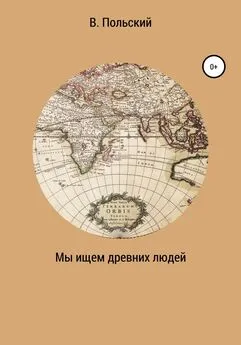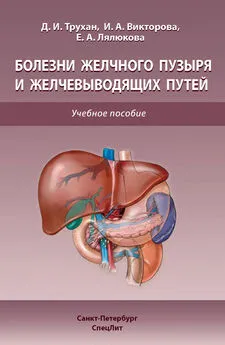Дмитрий Рохлин - Болезни древних людей
- Название:Болезни древних людей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1965
- Город:Москва-Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Рохлин - Болезни древних людей краткое содержание
В монографии изложены результаты изучения десятков тысяч ископаемых костей людей различных эпох — с древнекаменного века и до близких нам времен. Освещены развитие и старение костей, варианты, аномалии, древность и характер заболеваний, продолжительность жизни людей в прошлом. Показаны индивидуальные особенности скелета, своеобразие патологических изменений и их рентгенологическое отображение.
Этот оригинальный труд несомненно привлечет внимание интересующихся общими медико-биологическими проблемами и будет полезен для современной врачебной практики.
Книга рассчитана на широкий круг читателей — биологов, антропологов, этнографов и врачей, особенно рентгенологов, хирургов и судебно-медицинских экспертов.
Ответственный редактор Г. Ф. ДЕБЕЦ
Болезни древних людей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В Западной Европе в конце XVIII в. средняя продолжительность жизни равнялась 28 годам, в 1825 г. она достигла 32 лет, в середине XIX в. — 37 лет, к началу 80-х годов XIX в. — 40 лет; к 1925–1930 гг. поднялась во многих странах до 51 года (Амар, цит. по З. Г. Френкелю). В царской России, в европейской ее части, в 90-х годах XIX в. в возрасте до 16–17 лет умирало 50 % населения. [167] А. В. Нагорный . Старение и продление жизни. Изд. «Сов. наука», 1948.
Средняя продолжительность жизни в царской России в 1907–1910 гг. равнялась 30–33 годам.
Средняя продолжительность жизни увеличилась в значительной мере из-за резкого снижения детской смертности, особенно в течение первого года жизни детей.
Во Франции детская смертность на первом году жизни в 1871–1875 гг. равнялась 17.8 %, в 1876–1919 гг. — 11–13 %, в 1935–1939 гг. — 7.1 %, в 1950–1954 гг. — 4.6 %, в 1959 г. — 3.0 %. В Англии в 1871–1875 гг. и до 1900 г. эта смертность равнялась 15.0—15.6 %, в 1901–1915 гг. — 10.9—13.9 %, в 1959 г. — 2.2 %. В Италии детская смертность на первом году жизни в 1876–1880 гг. составляла около 20 %, в 1891–1895 гг. 18.4 %, в 1896–1900 гг. — 16.8 %, в 1916 г. — 16.7 %, в 1935–1939 гг. — 10.3 %, в 1960 г. — 4.4 %. В Венгрии в течение многих десятилетий второй половины XIX в. на первом году жизни умирало 20–25 % детей, в 1920–1924 гг. — 18–19 %, в 1935–1939 гг. смертность снизилась до 13.6 %; в социалистической же Венгрии эта ранняя детская смертность в 1956 г. равнялась 5.8 %, в 1960 г. — 4.8 %. [168] З. Г. Френкель . Основная закономерность демографических процессов современной эпохи. Сб. «Процессы естественного и патологического старения» Л., 1964.
Детская смертность на первом году жизни в царской России в 1913 г. равнялась 27.3 %, в СССР она резко снизилась и в 1961 г. составила 3.2 %. Снижение ранней детской смертности в нашей стране опережает темпы этого снижения в других экономически развитых странах. Кроме того, показатель общей смертности населения СССР в настоящее время ниже, чем в любой другой стране мира (З. Г. Френкель). Средняя продолжительность предстоящей жизни в СССР в 1961 г. (по данным Центрального статистического управления) для 60-летних равна 19.9 годам, а для 70-летних — 13 годам.
Среди исследованных нами нескольких тысяч скелетов людей, живших 2–3 столетия и до 3 тысячелетий назад, мы не наблюдали ни одного с наступившими синостозами во всех черепных швах, т. е. признака, позволяющего (по Валлуа) считать, что соответствующий человек жил больше 80 лет. Несомненно, что такие люди все же были, но это долголетие было столь редким явлением, что мы ни разу его не наблюдали. Средняя продолжительность человеческой жизни, резко снижаемая большой детской смертностью, была тем короче, чем больше мы уходим в глубь веков.
Все указанные данные свидетельствуют о том, что попытки приписать долголетие первобытному человеку или более или менее отдаленным предкам, ничем не обоснованы.
Вопреки легендам и преданиям, картина прошлого встает перед нами не как безмятежное детство, не как молодость и зрелость, знавшие одни лишь триумфы, не как спокойная старость. Из пожелтевших летописей, из раскопок древних городищ встает наша Родина, очень часто «мечом сеченая, огнем паленая, слезами мытая, в крови добытая».
Безрадостной и мрачной была в недалеком прошлом дореволюционная Россия. Несметны были богатства немногих, не знавших, что такое труд. Уделом подавляющего большинства был тяжкий, беспросветный труд, безграмотность, ужасающая детская смертность, преждевременная старость, ранняя смерть.
Все это за годы Советской власти стало далеким, давно преодоленным. Советский Союз, в частности, является уже в течение многих лет передовой страной в отношении средней продолжительности жизни человека.
Вполне понятно, почему И. П. Павлов накануне своего 86-летия писал, что очень хочет жить долго, «хоть до ста лет… и даже дольше… Что ни делаю, постоянно думаю, что служу этим, сколько позволяют силы, прежде всего моему отечеству. На моей родине идет сейчас грандиозная социальная перестройка. Уничтожена дикая пропасть между богатыми и бедными, и я хочу жить еще до тех пор, пока не увижу окончательных результатов этой перестройки». [169] Газета «Известия» от 6 июля 1935 г.
Легенда о «золотом веке» — это только небылицы. Даже в виде сказки она является заблуждением, порожденным слабыми. Это — тормоз для дерзаний. Легенда не окрыляет, как сказки о «сапогах-скороходах», «ковре-самолете», «волшебной палочке». Она, наоборот, подрезает крылья, вселяет недоверие к преодолению трудностей, к поискам нового, сковывает поднимающиеся и уже поднявшиеся силы. Для нас существует только один путь — вперед и выше.
Summary
The present work is the first Russian publication on human paleopathology covering a period from the Neanderthaloid stage and up to recent times. A number of monographs dealing with paleopathology of man and animals have been published in some other countries. Being of a definite scientific importance they accounted for the fact that the new branch of science has been acknowledged as such and gave rise to a growing interest to further investigations carried along that line. However, all those papers seem to lack the exhaustive completeness of observed data that is characteristic of the present book. Having proved the existence of many pathological changes in bygone epochs the authors of respective publications never attempted to show the value of their finds for practical application in medicine of the present day, particularly as a means of making modern X-ray diagnostics more accurate. While this is one of the main objects the present monograph is aiming at. There is no doubt that a good knowledge of the past, to which we are closely linked, helps us to acquire a better insight and understanding of the present.
Anatomical and radiological studies of osseous remains of man found in excavations, enable us to throw light on the duration of human life in far off days, on the rate of senility process in the bone-and-joint system, on the frequency of injury and illnesses, as well as on the peculiarities of the course they took.
Judging by the state of skeletons the duration of human life was brief. Skeletons showing signs of physiological senility, characteristic of advanced and old age have rarely been found. Great was the death rate in young children with no apparent changes in the skeleton. Thus, for instance, bones of children constituted about 33 p. c. of the total skeleton finds in the Sarkel-on-the-Don barrows, dated to the X–XII c. c. A. D. There is no doubt that death rate in childhood was still much greater. The fact is confirmed by evidence obtained from excavated barrows in Khakass district (from a later period of the neolithic epoch and until the I c. A. D.), as well as in the Trans-baikal region (back from the Bronze Age up to I c. A. D.), and in other places.
Centuries and millenniums ago as in our days pathological changes in macerated bones showed considerable individual variability, according to the size and severity of the lesion and the number of bones affected. However much those may vary, some fundamental characteristics of every pathologic process are essentially the same. This enables us to recognize abnormalities and morbid changes (both in their early stages and in a far advanced stage) observed in human skeletons of any epoch, from the early Stone Age and up to our days.
Degenerative dystrophic lesions of joints and semi-joints, as premature symptoms of senility, proved to be the most frequent conditions observed in skeletons. Those are deformative arthrosis, spondylosis and spondyloarthro-sis, as well as osteochondrosis of the intervertebral disks.
The extent and severity of these lesions as well as the number of bones affected are rarely as considerable in modern man as they had been in far off epochs. Premature infirmity due to degenerative dystrophic lesions of the locomotion apparatus of the human body had once been a most frequent phenomenon (Khakass district, from the late neolithic epoch, Bronze Age and up to the I c. A. D.; Eski-Kermen, Crimea, V–XII c. c. A. D.; Lake Ladoga region, XI–XII c. c. A. D.; Sarkel, X–XII c. c. A. D. and other regions).
In some regions traumatic lesions have been most frequent, battle injuries inclusive (Transbaikalia, the Selenga region, nomads of the VIII–XII v. c.; borderline town and fortress Sarkel, X–XII с. c.; Eski-Kermen, V–XII с. c.). Satisfactory union of fragments may be not unfrequently observed even in medial fractures of the femoral neck (South Siberia, a nomad VIII–X c. c. A. D.; Sarkel, X–XII с. c.). Unsatisfactory results have been observed in fractures, where the ends of the fractured bone overlapped each other (since extension was not applied), and also in complicated fractures. However, the number of bones bearing traces of complicated fractures, on the whole, is not great.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: