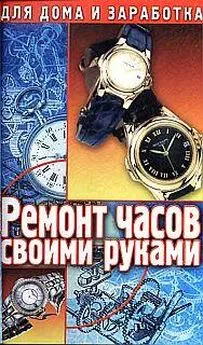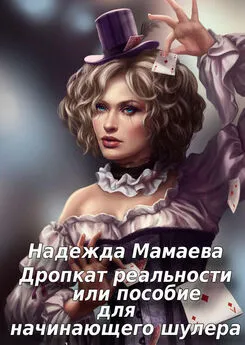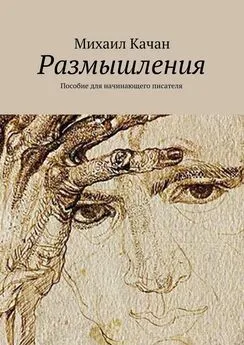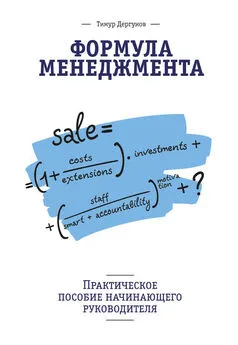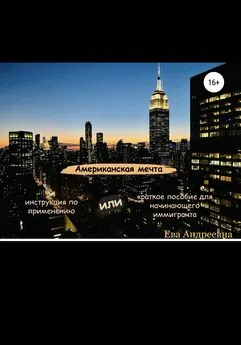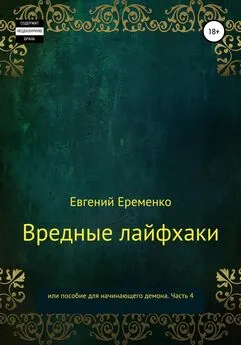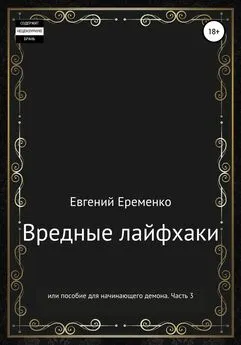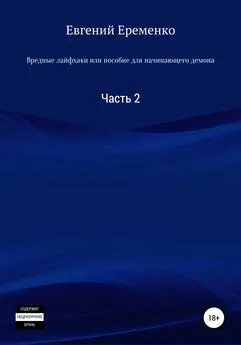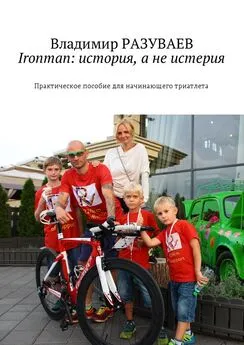Самуил Бронин - Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра)
- Название:Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Закат
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Самуил Бронин - Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра) краткое содержание
Это обследование было проведено более двадцати пяти лет назад. Автор попытался представить исследование о распространенности в населении психической патологии так, чтобы работа была в той или иной мере доступна всякому. Дело того стоит: психиатрия нужна каждому — особенно в тех ее разделах, которым эта книга посвящена в первую очередь: «пограничная», повседневная, почти житейская.
Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В. «Латентная» шизофрения, «дефект-психопатии», «осложненные шизоидные психопатии»
Ниже следуют описания, где шизофренная симптоматика, в сравнении с предыдущими случаями, еще более элементарна, «фрагментарна», стерта, «размыта». В условиях врачебной практики диагноз шизофрении как болезни здесь не мог и не должен был ставиться. Последнее не отменяет, однако, клинически вполне ощутимого и достоверного родства этих лиц с «вялотекущими шизофрениками». По степени выраженности симптомов, в порядке их убывания, нижеследующие наблюдения могли быть, как водится, разделены на три группы:
1) «Латентная шизофрения», которая отличается от вялотекущей отсутствием симптомов параноидного ряда, меньшей выраженностью и большей стационарностью всех «негативных» и стертых «позитивных» расстройств, составляющих сущность вялотекущей шизофрении: это ее смягченный вариант или аналог с мягким дефектом и столь же малозаметным движением во времени.
2) То, что можно обозначить как «дефект-психопатию» — где дефицитарная симптоматика сходна с процессуальной, но не обнаруживает развития и как бы неразрывно и изначально «спаяна с личностью». «Дефект» здесь выглядел постоянным и отождествлялся с патологическим характером: негативные расстройства были лишены даже минимальных признаков течения процесса во времени.
3) Наконец, то, что можно назвать «осложненной шизоидней»: случаи, когда шизоидия, не обнаруживая черт дефекта, сходного с постпроцессуальным, осложнялась присоединением стертых позитивных расстройств — прежде всего протрагированных депрессий в юношеском и инволюционном периодах. Собственно шизоидные черты при этом заострялись: появлялись элементы оппозиционизма, отгороженности от людей, враждебной отчужденности — особенно в отношениях с родителями, иногда — более отчетливая паранойяльность, но и при этом не чувствовалось «дефектных» симптомов: речь таких лиц, греша краткостью, была ясной и конкретной, мимика — скупа, но выразительна, моторика, хотя и сдержанная, лишена микрокататонической машинальности, прерывистости, несоразмерности. Имели место, иными словами, отношения в чем-то обратные дефектной шизоидии: более или менее явное течение процесса без сколько-нибудь заметных признаков приобретаемого изъяна личности.
Все эти случаи описаны ниже вперемежку, семьями. Дифференцировать названные варианты между собой в каждом из отдельных случаев — дело самое неблагодарное: о типах здесь, как и в других сходных ситуациях в психиатрии, можно говорить лишь как об абстракциях или степенях тяжести клинической патологии. Некоторые из таких лиц в разные периоды своей жизни и даже в разных условиях обследования могли импонировать то как латентные шизофреники, то как «дефектные психопаты» (хотя, с другой стороны, при изучении семей можно было наблюдать как бы наследственно отмеренную «дозу» шизофренической «инакости» и «странности», повторяющуюся во всех фамильных случаях). Вся эта патология несомненно занимает ту часть непрерывного шизофренического спектра, которая, по меньшей мере феноменологически, связывает носителей явной болезни с остальным населением. В этом континууме она соседствует, с одной стороны, с вялотекущими случаями болезни, с другой — с «неосложненной» шизоидней и далее, через шизотимию — с пресловутой нормой.
А) Латентные шизофрении
Семейный случай: отец и двое детей.
Набл. 19. Мужчина 64 лет. Из воронежской мещанской семьи. Отец был малограмотен, но участвовал в подпольном движении, распространял нелегальную литературу, скрывался от полиции; характеризуется «добрым». Сам обследуемый был с детства вспыльчив, легко лез в драку; дружил только с братом; жил, по его словам, по принципу: «ты меня не трожь, и я тебя не трону». Со школы рисует, с 18 лет начал этим зарабатывать. В 19 — разочаровался в искусстве, поступил к отцу на рыбный промысел, занялся боксом, но через 2–3 года вернулся к прежнему увлечению. Поступил в художественный техникум, переехал в Москву, работал здесь в прикладной живописи, писал, кроме того, картины «для себя».
С молодости сосредоточен на работе, рассеян, невнимателен к окружающему, плохо запоминал имена, фамилии тех, с кем его знакомили. Лет с 25–30 постоянно — то подъемы, то спады в творчестве, что сам связывает с тем, «получалось или нет» в живописи. Женился в 32 года. Изводил жену ревностью, развелся с ней; имел от этого брака сына, с которым виделся в последующем крайне редко и относился к нему «с прохладцей» (как не к своему?). Новый брак в 42 года. Эту жену также всегда ревновал: мужчины будто бы смотрят на нее особым образом, и она этому способствует. Жена характеризует его как человека прежде всего сугубо непрактичного: он «живет одним днем и одним искусством», может истратить последние деньги на холсты и краски, делает это импульсивно, «не подумавши». Помогает жене в машинальной кухонной работе, но совершенно беспомощен в более сложных делах, никогда не знает что где лежит, не видит того, что у него «под носом», постоянно обременяет жену просьбами найти то или иное; при этом требователен, раздражается, когда та отказывается или не сразу приходит ему на помощь. Детьми обычно не занимается, но временами начинает «муштровать» их, чего лучше бы не делал, потому что кричит тогда на них, «как фельдфебель», прибегает к ремню по поводу и без него, не понимает ни в ту минуту, ни потом, что был неправ, обвиняет жену в том, что она плохо их воспитывает. Затем «остывает» и детей снова как бы не замечает. Привязан к домашней собаке, любит ласкать ее. По оценке соседей, «высокомерен», «презирает» их, но «под настроение» может привести в дом незнакомого человека с улицы, разговориться с ним, накормить его, хотя жена, естественно, этим недовольна. Периоды мрачности, нелюдимости чередуются у него с повышенной общительностью — но именно с чужими людьми; хорошее настроение «написано у него на лице», но «он им со своими не делится». Всегда переоценивал себя как художника, был строптив на службе, не позволял никому опекать или поправлять себя, хотя признает, что наделен крупным профессиональным недостатком: никогда не доводит до конца свои картины, охладевает к ним до их завершения: так с каждой вещью. Всегда зарабатывал себе на жизнь, «но не более».
Внешне — невысокий, сухопарый, худощавый, неаккуратно одетый человек; выражение лица остановившееся, отвлеченное, отсутствующее. В первый визит врача хранил неприступное молчание, был крайне неловок в движениях, двигался по комнате подобно сомнамбуле, «манекену», разговор передоверил жене. Во второе посещение врача немногословен, неприветлив, смотрит мимо посетителя, но держится свободнее. О себе говорит расплывчато, непоследовательно и неровно: то в «телеграфном», «рубленом» ритме, то распространяется обо всем подробнее, но говорит отвлеченно и аморфно; ни в том ни в другом случае не проявляет заметного интереса к собеседнику, но иногда вдруг глядит прямо в лицо собеседнику и взгляд производит тогда впечатление испытующего, бесцеремонного, «дерзкого». Более склонен к рассуждательству на общие темы: недоволен, например, порядками, царящими в мире искусства, считает также, что сделали неправильно, повысив зарплату низкооплачиваемым слоям населения. О соседях говорит только, что хотел бы поменьше знать об их существовании. Несколько раз спрашивал жену в присутствии врача что где лежит — это он, по ее словам, делает совершенно автоматически, по привычке. Объясняет свою постоянную рассеянность сосредоточенностью на работе. Отмечает у себя при этом одну особенность: в минуту опасности (однажды это было на пожаре) подобная невнимательность с него как бы «слетает» — он действует тогда с ясной головой и незаурядным хладнокровием. Уставился на врача, когда тот собрался уходить, и предложил нарисовать его, приговаривая: «Это должно быть интересно… молодой врач… очень интересно…» (С).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: